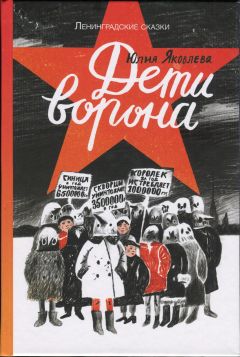Ознакомительная версия.
Зайцев ездил на вызовы. В перенаселенные коммуналки в центре и в рабочие бараки на окраинах. Вдыхал влажный запах псины в милицейском автобусе, когда с собой брали Туза Треф. По пути обычно дремал, засунув руки под мышки, пока остальные перекидывались замечаниями. Допрашивал. Осматривал. Жмурился, когда Крачкин, снимая место преступления, нечаянно захватывал магниевой вспышкой и его. Брал через платок пустые бутылки (они были непременной деталью едва ли не каждого ленинградского убийства). Писал протоколы и рапорты.
А еще теперь была Алла. Куда это все идет и каковы их «отношения», Зайцев не задавался вопросом. Они оба как-то молчаливо признали, что не будут следовать общепринятому кодексу: расписываются, съезжаются, потом покупают матрас на пружинах, потом… Про потом Зайцев тоже не думал, а Алла не заговаривала. Они оба сновали между комнатами – его и ее. Алла никогда не жаловалась на то, что он работал допоздна; вечерами она и сама была занята в театре, до ломоты в спине таская костюмы, гладя, подшивая, укладывая обратно.
Когда они, наконец, встречались, в квартире уже стояла спящая тишина. И казалось, что они не только в комнате – во всей квартире одни. Сидели перед печкой и смотрели на угли, в которых пеклась картошка, Алла вилкой выкатывала горячие, в серебристо-серой пудре картофелины одну за другой; ужинали, сидя на полу. И Зайцев предпочитал думать, что их обоих это устраивало. Паша тоже молча признала новый порядок. Вернее, держалась так, будто никакой Аллы и не было. А Алла только раз спросила: кто это? Зайцев ответил: «Паша, соседка». Тем дело и кончилось. Алла вовсе не горела желанием энергично взять зайцевский быт за два угла и хорошенько встряхнуть. И Зайцев был втайне ей за это признателен.
Так они и плыли по течению. И зима уже начинала подтаивать по краям, все серее становился снег, все влажнее и теплее – ветер, насквозь продувавший город.
Убийство произошло на Петроградской стороне.
Когда автобус подъезжал к мосту, вдруг пошел снег: крупные тяжелые хлопья. Сразу как будто небо стало ниже, притянутое к земле мокрыми веревками.
– Смотри, гэпэушники какой себе дворец строят, – кивнул подбородком шофер, когда они остановились на перекрестке. Зайцев повернул голову: сквозь пелену на проспекте Володарского, который по-старому горожане привычно называли Литейным, видна была гигантская стройка. Зайцев хотел сказать на это, что… Обернулся, увидел, что лица у всех стали отсутствующими, замкнутыми. Только Туз Треф в ответ на движение вопросительно поднял морду и посмотрел Зайцеву в глаза. Зайцев промолчал и снова стал смотреть в окно.
На мосту уже и вовсе казалось, что земля и небо куда-то провалились и автобус тряско ползет в сероватом, мельтешащем пространстве, где нет ни верха, ни низа. Темным привидением прошел мимо трамвай. Ленинградский февраль привычно показывал свои лучшие фокусы.
В мокрой пелене Зайцев не видел, куда они едут, сворачивают. Наконец, машина остановилась, мотор заглох. Собака вскочила, радостно потягиваясь всем телом после тряской езды лежа на полу, натянула поводок. Серафимов и Самойлов спрыгнули, снег чавкнул под их ногами. Завозился со своим оборудованием в дверях Крачкин. Зайцев вышел последним.
Невольно остановил взгляд на выразительных фигурах, которые обрамляли портал дома, лепились по углам. До революции Петроградка считалась модным районом. Здесь, как и в центре, Зайцева всякий раз поражал контраст между стройностью дореволюционных домов и жизнью, которая скрывалась за их нарядными, но ветшающими фасадами: жизнью послереволюционной – бедной, тесной, вонючей, в криках и кухонном чаду коммуналок.
У парадной топтался управдом в едва накинутом на плечи полушубке. Дворник с деревянной лопатой стоял рядом и угрюмо посмотрел на собаку:
– Ишь, пес тоже, стало быть, мильтон.
– Сюда, товарищи, – меленько побежал, быстро распахнул дверь управдом. Мертвый лифт в клетке. Заколоченный черный ход. Запах кошек, несвежей еды и мочи. Все как в тысячах ленинградских подъездов в некогда богатых домах, отданных советской властью простому народу. Повалили вверх. Туз Треф тыкался носом то вправо, то влево, стеля хвостом по загаженным ступеням. Бронзовые шашечки по краям говорили, что до революции здесь когда-то лежал ковер.
Дверь квартиры была распахнута настежь. Соседи, растревоженные происшествием, выглядывали на площадку. Зайцеву казалось, что он опять разыгрывает насмерть знакомую сцену: будто и соседи всегда одни и те же. «Смотри, собака». По команде вожатого пес сел, обернув вокруг себя хвост, и тут же вывалил розовый язык.
Прошли длинным, загроможденным старыми вещами коридором. У Зайцева опять появилось чувство, что всякий раз это одна и та же коммуналка. Просто вынесли, допустим, высокое зеркало из прихожей, а поставили сломанный шкаф. И перевесили иначе корыто, и вздыбили возле другой стены старый велосипед. Убрали коробки, добавили коробки. Даже запах казался одним и тем же.
Управдом показал комнату. Крачкин быстро осмотрел замок.
– Следов взлома не видно. Нуте-с, посмотрим.
Вошел в комнату. За ним Серафимов, Самойлов. Комната большая, просторная и полная света – насколько это вообще возможно в Ленинграде с его вечно мутным небом. Зайцев ступил через порог. И обмер.
Весь посторонний шум для него как бы умолк. Призрак Крачкина беззвучно расставлял треногу. Бесшумно раскрывали рты привидения оперативников, сквозя мимо.
Убитая была одета в алый шелковый халат с широкими рукавами. Труп сидел в кресле прямо, только голова чуть свешивалась – словно под тяжестью жемчужных бус, обвивавших лоб; концы нитей уходили куда-то в прическу. Белые кулаки казались восковыми на фоне шелка. Они лежали один на другом. Из правого торчал цветок. Ярко-красный даже на фоне красного халата.
– Гвоздика, – вдруг обрел голос Крачкин. Он наклонился, несколько раз взмахнул ладонью над цветком, по всем правилам безопасности подгоняя воздух к ноздрям, а не вдыхая напрямую. И сообщил: – Причем живая. В отличие от гражданки.
– В феврале? – отозвался Самойлов, стукавший ящиками комода. – Оригинально.
– А вот и документики, – Серафимов показал им дамскую лаковую сумочку. Щелкнул застежкой. Вынул твердую книжечку удостоверения и прочел вслух, бросив быстрый взгляд – на убитую, на фотографию:
– Карасева Елена Петровна.
Управдом подтвердил личность убитой. Вспышка окатила мертвую женщину.
Карасева Елена Петровна, работница аптеки.
Серафимов и Самойлов пошли говорить с соседями. Зайцев внимательно ощупывал взглядом комнату.
Ему сегодня все казалось повторяющимся сном. Может, поэтому кажется и сейчас, что он это уже видел?
Зайцев смотрел на бледное лицо убитой, с усталыми, будто подернутыми ржавчиной веками. Это кресло. Эта странная прическа. Этот крупный, несомненно, ненастоящий жемчуг. Эта раздражающе живая, вернее, конечно, уже мертвая – срезанная, но все еще свежая гвоздика. Она огоньком горела над мертвым холодным кулаком.
Зайцев изо всех сил отталкивал от себя эту мысль. «Я устал», «не выспался просто», «весь день сегодня как во сне». Но все-таки сдался и признал: убитая Карасева странно напомнила ему Фаину Баранову. А обе они – странно разодетых женщин, убитых на Елагином.
Или убитых – а потом разодетых?
– Крачкин, – позвал он.
Но тут внесли и положили на пол носилки. Тело Карасевой, застывшее в трупном окоченении, с трудом вынули из кресла. Санитары все никак не могли взяться за него сподручнее. Наконец схватились, подняли, перенесли. Накрыли простыней. Оно высилось отвратительной горой.
Зайцев закончил рапорт. Тоскливая однообразно тяжкая жизнь порождала такие же тоскливо-однообразные преступления. Они либо раскрывались по горячим следам (потому что, как правило, виновный валялся тут же, сам пьяный, или по глупости своей тотчас волок краденое продавать), либо повисали мертвым грузом, пополняя статистику нераскрытых, которые не раскроет уже никто и никогда, потому что расследование заглохло и было прекращено. Гр. Вяткин по распитии спиртных напитков ударил бутылкой по голове гр. Башмакова. Гр. Спицына, состоящая на учете как занимающаяся проституцией, пригласила к себе гр. Свечкина, после совместного распития спиртных напитков…
Зайцев потянулся, зевнул. Вынул рапорт из машинки.
– Вася, не занят? – Крачкин вошел, не спрашивая разрешения войти. Даже не встречаясь с Зайцевым глазами.
– Занят, конечно. Странный вопрос.
Крачкин не поддержал его тон.
– Еще вот. Развлекайся.
Шлепнул на стол четыре папки. Зайцеву показалось, что голова у него от одного вида этих папок сразу наполнилась песком.
– А совещание? – спросил он Крачкина в спину.
– Какое еще совещание? – недовольно спросил тот, не оборачиваясь. Но остановился, уже хорошо.
– Да по Карасевой, убитой с Петроградки. С цветочком.
Ознакомительная версия.