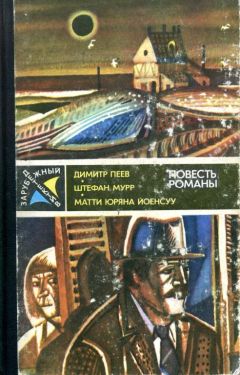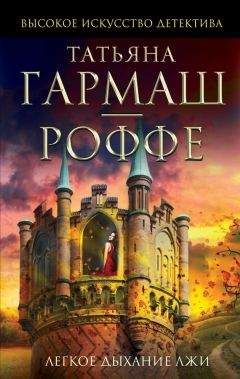— Придется ему рассказать, — решила Хулда. — И спросить совета — что теперь делать…
Остальные молчали, потом закивали головами: хоть Калле уже немного не в себе, но все-таки он умен, этот старый, мудрый человек. И Хулда вдруг будто проснулась.
— Девочки! — воскликнула она. — Вы это в каком виде, бесстыдницы! Алекси, сей момент марш прибираться, и нечего тут… Поправь половики. Ты, Хелли, соберешь ножи с пола и помоешь…
Хулда заметалась по комнате, прибирая вещи и застилая постели, ее негромкое брюзжание ни на минуту не прекращалось, но слушать его было скорее приятно, чем досадно — оно помогало чувствовать, что жизнь продолжается.
— Орвокки, пускай Хилья присмотрит за твоей малышней, а ты садись за телефон. Позвонишь в больницу, спросишь, куда они его отвезли. Не умеешь мужа возле себя удержать… гоняешь его по танцулькам… известно, чем это кончается…
Потом они вышли в прихожую и постучали в дверь Калле — его комната не имела окон и была, собственно говоря, кладовкой, но, когда оттуда убрали вешалку и полки, она стала просторнее. В кухне Калле нельзя было устроить, потому что дети да и все остальные постоянно там толклись — он думал бы, что его уже никто не уважает, раз ему не дают покоя.
— А?
Старина Калле лежал в постели, маленький, сухонький, словно птичка, и щурил глаза от света. Подбородок его зарос серебристой щетиной, в руке он держал карманные часы, точно боялся, что кто-нибудь их украдет. Сашка наклонился к нему поближе.
— В Фейю стреляли. Но, может, он еще жив.
— А?
— Сыновья Кюести стреляли в Фейю. В старшего сына вашего Манне.
— Да, Манне был мужик что надо. Он убил Кюести.
Орвокки каким-то совсем чужим голосом говорила в комнате по телефону:
— Нет, я не об этом… Но куда его увезли? В какую больницу? Почему? Почему не можете сказать? Да, да, я его родственница… Я прошу вас, скажите, куда его увезли… Не надо…
— Это бессовестно — стрелять из пистолета, — сказал Калле, — теперь ни у кого уже никакой чести нет…
Он снова опустил голову на подушку и закрыл глаза, точно уснул посреди фразы. Но когда все повернулись, собираясь выйти, он выкрикнул на удивление резко:
— Кто завтра поедет продавать картошку? Мне, что ли, придется? И куда машина-то делась? Фейя вечером говорил, что поедет на машине, хоть она и полна картошки.
— Не беспокойтесь, Калле! — сказала Хулда. — Постарайтесь уснуть. Я погашу свет. А как услышу о Фейе — приду рассказать.
— А?
— Постарайтесь уснуть.
— Где машина? — спросила Хулда, закрывая дверь. Голос у нее был сердитый и губы сжаты. Потом, точно вдруг что-то вспомнив, она опустила голову, разглядывая руки, и сказала совсем другим тоном: — Я к тому, что надо ее домой пригнать. Чем еще завтра заработаешь? Деньги-то все в картошку вложены.
— Машина на Малом пороге. Пригнать ее?
— Та-ак…
Хулда повернулась и зашаркала к кухне. В сущности, она оставила вопрос без ответа. Сашка стоял один в прихожей. Сначала он думал о машине и о картошке — они там, на темной стоянке между танцзалом и железной дорогой, в кустах. А Вяйнё и Онни — где они? Плоскостопые, наверно, все еще там. Но они не знают, что это их машина, и не догадаются устроить в ней засаду. Он сумел бы ее завести, хотя у него и нет ключей, Фейя не раз показывал ему те концы, которые надо соединить. Потом Сашка стал думать о Хулде, как она держится, и вдруг вздрогнул, пронзенный новым ощущением — он стал взрослым в один миг, сразу и окончательно, его уже нельзя отчитывать; Фейи нет, а Старина Калле не в счет. От этой мысли Сашка невольно прислонился к стене — он не знал, как обо всем позаботиться.
— Они не сказали! — жалобно говорила Орвокки. — Может, его никуда и не увозили… Может, Фейя…
— Молчать! — вспылила Хулда. — Ты, Алекси, останешься приглядывать за Калле. Дверь открывать никому не смейте! И никуда не ходите. Понял? А вы все, быстро обуваться! Орвокки, вызови такси… Если понадобится, все больницы объедем, где-нибудь найдется.
И вот Хулда уже в прихожей — большая, смуглая, ищет руку Сашки.
— Возьми-ка…
Это деньги. Новые купюры, еще гладенькие, настоящие деньги, те, которые спасают и помогают, — Хулда достала их откуда-то из тайника, где они были припрятаны на черный день.
— И это тоже.
Сашка вздрогнул. В другую руку Хулда сунула ему пистолет — холодный, тяжелый, пугающий — особенно потому, что его дала Хулда. Он не мог толком разглядеть оружие и боялся, что не сумеет им воспользоваться. Его вдруг стала бить дрожь.
— Вы хотите, чтобы Вяйнё и Онни… чтобы я?..
Хулда не сразу ответила. Они оба молчали. Сашка понял, что внутри у матери все плачет, что она едва держится на ногах, но притворяется сильной, чтобы выдержали остальные.
— Нет, — шепнула наконец Хулда. — Но гляди в оба. Онни такой, он на все способен… только Бог их все-таки покарает…
— Может, сказать плоскостопым, что это они?
— И думать об этом не смей! Такого позора мы на себя не возьмем. Сами позаботимся о своих делах — белобрысым на нас наплевать. А свяжешься с ищейками — пропадешь.
— Подумайте спокойно, — сказал Харьюнпяа со всей мягкостью, на какую только был способен. И так как женщина уже не плакала (видимо, подействовал укол), он решил продолжить: — Постарайтесь вспомнить, стоял ли он у окна еще до первого выстрела? Или подошел только после того, как раздался выстрел?
— Нет… Нет…
Женщина, закрыв лицо руками, снова автоматически закачала головой.
— О’кей! Остановимся, — вздохнул Харьюнпяа.
Он и женщина находились в маленькой кухоньке за буфетом. Из буфета не доносилось никаких звуков — наружную дверь охранял констебль из полиции нравов. Зато из танцевального зала отчетливо слышались растерянные голоса собранных там свидетелей, а с улицы — возгласы, торопливые шаги, новости, передаваемые транзисторами, и треск заводимых мотоциклов. То и дело кто-нибудь распахивал дверь в кухню, ведущую прямо со двора, и испуганно извинялся:
— Простите…
— Можно пригласить Мононена?
— Собаки вернулись — следы кончаются на пляже. Сказать, чтоб еще поискали?
— Полицейское управление выясняет, можно ли разобрать запруду.
— Послушай, Харьюнпяа, а кто руководит наружными поисками?
Харьюнпяа научился размышлять, не обращая ни на что внимания. У него уже сложилось общее представление о случившемся, но ему казалось, что сейчас очень важно получить показания этой женщины. Он снова посмотрел на нее. Ему хотелось встряхнуть ее или просто прикоснуться к ней, чтобы между ними установилась хоть какая-нибудь связь. Но он остерегался сделать это, потому что женщина была вся в крови — руки, одежда, даже волосы. Кровь пробовали оттереть бумажными полотенцами, но безуспешно. Это была чужая кровь. Врач обследовал женщину и не нашел на ней ни царапинки — это была кровь убитого, который лежит на полу в буфете, — Харьюнпяа едва успел на него взглянуть.
Наружную дверь снова с силой распахнули, и в кухню с шумом ввалился присланный на подмогу Турман, второй сотрудник технического отдела. В руках он держал тяжелый следственный портфель, брови были недовольно сдвинуты. За ним с камерой на шее вошел Кеттунен.
— Расследование на улице ни хрена не дало, — буркнул Турман и заметил женщину. — Извиняюсь… Черта лысого там разберешь, все уже затоптали медики, всякие зеваки и по крайней мере полсотни полицейских — а им как раз надо было следить за тем, чтобы туда никто не ходил…
Он посмотрел на женщину сощуренными глазами, но даже бровью при этом не повел.
— А гильзы? — спросил Харьюнпяа.
— Ни одной. Мы все обшарили…
— У них были револьверы, — вставил Кеттунен.
— Засунь свой револьвер знаешь куда… Извиняюсь. Тот свидетель, которого Кауранен допрашивал, стоял метрах в пяти — это вообще-то офицер, — и он уверен, что стреляли из пистолетов. Гильзы, конечно, втоптали в землю, по крайней мере сантиметров на пять. Я отметил место, его надо основательно прочесать металлоискателем. Больше я ничего не мог сделать, только сфотографировал. Мертвяк-то здесь или нет?
Харьюнпяа предостерегающе поднял руку, встал и наклонился к женщине:
— Если можете, подождите еще минутку…
Он открыл дверь в буфет.
Все втроем остановились на пороге. Помещение не было особенно большим — метра три в ширину и десять в длину. Оно выглядело мрачно, как многие буфеты. Половицы стерты, из них торчат сучки. На стенах старые рекламы взбадривающих напитков, теперь уже выцветшие и засиженные мухами, на маленькой полочке — переходящий приз, который когда-то выиграло содержащее заведение общество. На столах помятая посуда разового употребления и переполненные пепельницы. В воздухе — густой, тяжелый запах крови.