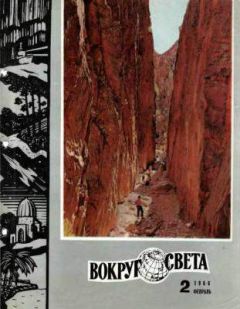Матер сказал тяжело:
— Ты меня не любишь так, как я тебя люблю. Я тебя увижу только через двадцать четыре часа.
— И, может, позже, если я найду работу.
— Ты меня не любишь, просто не любишь. Она схватила его за руку.
— Посмотри, посмотри на объявление.
Но оно исчезло раньше, чем он успел разглядеть его через запотевшее окно. «В Европе объявлена мобилизация», — легло камнем на ее сердце.
— Что там было?
— Снова об этом убийстве.
— Если бы это случилось здесь, мы бы его уже поймали.
— Интересно, почему он это сделал?
— Политика. Патриотизм.
— Ну вот мы и приехали. Не будь таким мрачным. Ты же говорил, что счастлив.
— Это было пять минут назад.
— О, — сказала она от всего своего легкого и тяжелого сердца, — в наши дни жизнь идет так быстро.
Они поцеловались под фонарем. Ей пришлось встать на цыпочки. Он внушал спокойствие, как большой пес, даже когда он был молчалив и туповат. Разве вы выгоните пса одного в такую темную и холодную ночь?
— Энн, — спросил он, — мы поженимся после рождества, правда?
— У нас ни пенни нету, — ответила она. — Ты же знаешь. Ни пенни… Джимми.
— Я получу повышение.
— Ты опоздаешь на дежурство.
— Черт с ним. Ты меня не любишь.
— Ни гроша, дорогой, — усмехнулась она и пошла по улице к дому № 54, молясь о том, чтобы достать денег. «Господи, пусть получится сейчас, на этот раз, быстро», — она совсем не верила в себя. Навстречу шел человек, ему было холодно и неуютно в черном пальто. У него была заячья губа. «Бедняга», — подумала она и забыла о нем, открыла дверь, поднялась к себе, поставила новую пластинку.
Человек с заячьей губой быстро шел по улице. Он не согревался от быстрой ходьбы. Как Кай в «Снежной королеве», он нес холод в себе. Хлопья продолжали падать, расплываясь в грязь на тротуаре, с освещенного окна на четвертом этаже падали слова песни. Человек не остановился. Он быстро шел по улице. Он чувствовал боль от кусочка льда в своей груди.
3Рэвен сел за пустой столик в Корнер-хаузе. Он смотрел с отвращением на длинный список сладких холодных напитков, эскимо и ассорти, крем-брюле и шоколадного мороженого. Некто за соседним столом ел черный хлеб с маслом и запивал молоком. Он потупился под взглядом Рэвена и загородился газетой. Одно слово — «Ультиматум» — пересекало страницу.
Мистер Чолмонделей пробирался между столиками. Он был толст и носил изумрудное кольцо. Его широкое квадратное лицо опускалось складками на воротник. Он присел за столик Рэвена и сказал: «Добрый вечер».
— Я думал, вы никогда не придете, мистер Чол-мон-де-лей, — сказал Рэвен, раздельно произнося каждый слог.
— Чамбли, мой дорогой, Чамбли, — поправил его мистер Чолмонделей.
— Неважно как произносится. Я не думаю, что это ваше настоящее имя.
— В конце концов я его выбрал, — сказал мистер Чолмонделей и принялся листать меню, а его кольцо засверкало отражением перевернутых люстр. — Как насчет пломбира?
— Странно есть лед в такую погоду. Вышли бы на улицу, если жарко. Я не хочу терять времени понапрасну, мистер Чолмонделей. Принесли деньги? У меня ни гроша.
— Они здесь неплохо готовят «Девичью мечту», уже не говоря об «Альпийском блеске» или о «Славе Никербокера», — сказал мистер Чолмонделей.
— У меня во рту ничего не было с самого Кале.
— Дайте письмо, — потребовал мистер Чолмонделей. Он сказал официантке: — Принесите «Альпийский блеск» и стакан кюммеля.
— Деньги! — бросил Рэвен.
— В этом бумажнике.
— Они все по пять фунтов!
— Нельзя же заплатить две сотни мелочью. И кроме того, это меня не касается, — ответил мистер Чолмонделей. — Я только агент.
Его взгляд смягчился, когда он увидел малиновый пломбир на соседнем столике. Он с жаром признался Рэвену: «Я сладкоежка».
— Вы не хотите узнать, как все было? — спросил Рэвен. — Старуху…
— Нельзя же заплатить две сотни мелочью. И кроме того, это меня не касается, — ответил мистер Чолмонделей. — Я только агент.
— Что вы, что вы, — запротестовал Чолмонделей. — Я ничего не хочу слышать. Я только агент. Я не несу никакой ответственности. Мои клиенты…
— Неплохо вы их называете, — Рэвен презрительно сморщил заячью губу.
— Ну, скоро ли принесут мой пломбир? — пожаловался мистер Чолмонделей. — Мои клиенты замечательные люди. Это акты насилия… они рассматривают их как войну.
— А меня и старика… — начал Рэвен.
— В первой траншее, — он мягко засмеялся собственной шутке.
Большое белое лицо мистера Чолмонделея было похоже на экран, на котором можно показывать гротескные картины: кролика, человека с рогами. Маленькие глазки заблестели от удовольствия при виде мороженого, принесенного в высоком бокале.
— Вы очень хорошо поработали. Очень аккуратно. Они очень вами довольны. Теперь вы сможете как следует отдохнуть. — Он был толст, он был вульгарен, он был фальшив, но он производил впечатление большой силы. Мороженое капало у него изо рта. Он был олицетворением благополучия, он был одним из тех, кому принадлежат вещи, а Рэвену принадлежали только содержимое его бумажника, одежда, в которой он поднялся из-за стола, его заячья губа, его пистолет, который ему следовало бы оставить в том доме.
— Я пошел, — сказал Рэвен.
— Прощайте, мой дорогой, прощайте, — ответил мистер Чолмонделей, посасывая мороженое через соломинку.
Рэвен встал и вышел. Темный, тонкий, созданный для разрушения. Он чувствовал себя неловко среди маленьких столиков, среди ярких фруктовых напитков.
Он вышел на площадь и пошел по Шафтесбюри-авеню. Окна магазинов были украшены ветками и бутафорскими рождественскими вишнями. Он сжал кулаки в карманах. Его бесила их сентиментальность. Он прижал лицо к витрине магазина и молча глазел через стекло.
Что-то вроде затаенной жестокости завлекло его в магазин. Он открыл заячью губу, чтобы ее могла видеть девушка, подошедшая к нему. Он сделал это с таким же удовольствием, с каким разрядил бы пулемет в картинной галерее.
— Вот то платье на витрине. Сколько?
— Пять гиней, — ответила продавщица. Она не добавила «сэр». Его губа была клеймом класса. Губа говорила о бедности родителей, которые не смогли нанять хорошего хирурга.
— Платье ничего, а? — сказал он.
— Оно пользуется большим успехом, — прошелестела она изысканно.
— Мягкое, тонкое. О таком платье надо заботиться, правда? Сшито для какой-нибудь красивой и богатой?
— Это модель.
Она лгала без интереса. Она знала, как дешева и вульгарна эта лавка.
— В ней чувствуется класс, да?
— О да, — согласилась она.
— Хорошо, — сказал он. — Я дам вам за него пять фунтов.
Он вынул банкнот из бумажника мистера Чолмонделея.
— Завернуть?
— Нет, — сказал он и ухмыльнулся изуродованной губой. — За ним зайдет девушка. Понимаете, девушка — высший класс. Так это лучшее платье у вас?
И когда она кивнула, пряча деньги, он добавил:
— Тогда оно как раз для Элис.
И снова вышел на улицу, излив часть своего презрения, и завернул за угол в немецкое кафе, у хозяина которого снимал комнату. Здесь его ждал сюрприз — маленькая елочка в горшке, украшенная цветными стекляшками и блестками. Он спросил старика, хозяина кафе:
— Вы верите в это? В эту чепуху?
— Неужели снова война будет? — спросил старик. — Так ужасно читать об этом. Я видел одну войну.
— Ненавижу сантименты.
— Ну что же, — сказал старик, — это полезно для дела.
Он поднялся к себе в комнату. Ее не убирали. В тазу была грязная вода, и кувшин был пуст. Он вспомнил, как толстяк говорил; «Чамбли, мой дорогой, Чамбли». Надо произносить «Чамбли», и яростно закричал, перегнувшись через перила:
— Элис!
Она вышла из соседней комнаты — одно плечо выше другого, пряди светлых крашеных волос спадают на лицо.
— Кричать-то зачем? — спросила она.
— Здесь свинюшник, — разозлился он. — Нельзя ко мне так относиться. Пойди и все вычисти.
Он ударил ее по голове, и она отпрянула, не смея сказать ничего — кроме: «Ты за кого себя принимаешь?»
— Давай, давай, скотина горбатая. — И засмеялся, когда она склонилась над постелью: — Я купил тебе рождественское платье, Элис. Вот чек. Пойди и получи. Красивое платье. Оно тебе подойдет.
— Думаешь, смешно? — сказала она.
— Беги, Элис, а то лавка закроется.
Но она отыгралась, крикнув снизу:
— Я не хуже тебя с твоей рваной губой.
Все в доме могли ее слышать, и старик в кафе, и его жена в спальне, и клиенты у стойки. Он представил себе, как они ухмыляются: «Давай, Элис. Ну и парочка вы с ним». Он не то чтобы действительно страдал. Он впитывал в себя яд каплю за каплей, с самого детства, он вряд ли чувствовал его горечь сейчас.