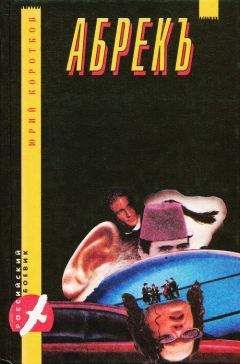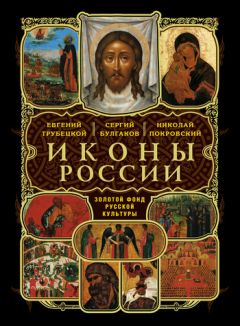В том, что он не бросил тебя с чужим ребенком на произвол судьбы и даже признал меня своей дочерью?
— Не надо так со мной, прошу тебя, — едва слышно прошептала мать и словно замкнулась в своей скорлупе, думая о чем-то своем.
— Дура! — нарочито громко произнесла молчавшая до этого тетка, и непонятно было, к кому больше относится это определение: к матери или же к ней.
В ту ночь она не сомкнула глаз, а утром подошла к лежавшей на подушках матери и вдруг разревелась по-детски, уткнувшись лицом в ее ладони. Мама, словно маленькую девочку, погладила ее по голове, и она едва слышно, будто стеснялась своих собственных слов, спросила:
— У тебя сохранилась его фотография?
— Твоего отца?
— Да.
Скорбный вздох и…
— К сожалению, нет. Я… я не хотела нанести боль человеку, который стал твоим отцом, и…
— И ты уничтожила его фотографии?
Утвердительный кивок головой и виноватый взгляд, брошенный из-под припухших век.
Потом они всплакнули, как бы прося друг у друга прощения, однако надо было готовиться к приходу американских гостей, и она на какое-то время забыла о нервно-лихорадочной боли в груди, прибираясь в квартире. А потом… наступил тот самый момент, когда она по-настоящему уразумела, что у нее действительно было два отца, два любящих сердца, один из которых помогал ее матери стирать и гладить ночами грязные пеленки, а второй страдал от гложущей тоски и своего бессилия в далекой Америке.
Довольно элегантный и предупредительный Моисей Рохлин, официальный представитель нотариальной конторы Натансона, зачитал ей и матери завещание, составленное ее отцом перед отлетом в Россию, а она… она так и не смогла до конца осознать, насколько круто может измениться теперь их жизнь. И только после ухода гостей, когда она мыла на кухне чашечки и тарелки китайского сервиза, а затылочная часть наполнялась тупой, нарастающей болью, она вдруг словно очнулась от того состояния, в котором пребывала все это время, и до нее дошел весь смысл происшедшего.
Отец оставил им колоссальное даже по американским меркам состояние, и теперь они с матерью миллионеры.
Миллионеры!
В это трудно было поверить, но это было так.
Недвижимость на Манхэттене, довольно приличный счет в банке, коллекция старинных икон и картин русских передвижников, страховая стоимость которых определялась цифрой со многими нолями. И все это…
Теперь, по крайней мере, можно будет отправить мать с теткой в Германию или в ту же Америку на лечение, и, дай-то Бог, она опять встанет на ноги.
От этой мысли хоть немного прояснилось в голове, и Злата, составив на кухонный столик чашечки из тонкого фарфора, взяла в руки запечатанный конверт с письмом отца, который ей передал после оглашения завещания Моисей Рохлин.
Точно такой же конверт был передан и матери, который она, кажется, вскрыла сразу же, как только осталась в комнате одна. А она вот никак не могла решиться на то, чтобы вскрыть конверт, на котором было всего лишь два слова: «Для Златы!». Мешала внутренняя дрожь и еще непонятно что.
Наконец она все-таки смогла пересилить свое состояние и, чувствуя, как чуть дрожат руки, вскрыла конверт. Выхватила глазами первую строчку, которая заставила ее задохнуться от слез, и с силой растерла виски.
«Здравствуй, моя дорогая девочка! — вчитывалась она в пляшущие перед глазами буквы. — Не знаю, имею ли я право называть тебя дочерью и простишь ли ты меня, что не я, а мой друг встречал тебя и твою маму из родильного дома, но поверь мне, я проклял тех людей, которые выкинули меня из России, мне жаль, что не смог поцеловать твое прелестное личико. И поверь, не моя вина, что так сложилось в жизни и тебя нянчил другой человек.
Господи, Злата! Если бы ты знала, как больно писать мне эти строки и сколько слез я пролил, вспоминая твою маму и представляя, как ты растешь. Сознаюсь, в моем доме хранятся несколько альбомов твоих фотографий, которые делали специально для меня в разные годы твоей жизни, и я, всматриваясь в твои глаза, которые удивительно похожи на мои, мечтал о том, что Господь внемлет моим молитвам и я смогу обнять тебя и расцеловать как отец. Но чувствую, что мне уже не испытать этого счастья, и я прошу тебя об одном: постарайся правильно понять все то, что случилось тридцать лет назад. Возможно, мне надо было поступиться на тот момент своей совестью, и, возможно, это было бы правильно, но я еще не знал, что мама уже носит тебя в своем чреве, и…
Прости!
Порой я ловил себя на том, что надо бы принять более активные меры и вывезти тебя с мамой в Америку, но к тому времени, когда я мог бы это сделать, ты уже считала своим родным отцом совершенно другого человека, мне рассказывали, что вы счастливы, и я не мог, не имел права ломать вашу жизнь.
Дорогая моя дочка! Это письмо может попасть к тебе только в случае, если со мной что-то случится, а предчувствия меня не обманывают, но если бы вдруг я остался жив, то обязательно нашел бы возможность открыться тебе во всем. Я любил и продолжаю любить твою маму, и поэтому прошу принять мое завещание как попытку загладить свою вину перед вами. Всегда любящий тебя отец.»
Подпись и число, когда было написано письмо.
Не в силах справиться более со слезами, которые словно перевернули что-то в ее душе, расчистив дорогу для нахлынувших чувств, Злата ткнулась лицом в ладони и зарыдала, содрогаясь при каждом всхлипе.
— Господи милостивый, да за что же нас так?.. — причитала она, не в силах остановиться.
Затихла, когда немножко полегчало, и вытерев слезы, прислушалась к звукам, которые доносились из-за двери.
В соседней комнате рыдала мать.
— Мама, тебе плохо? — застыв в дверях, спросила она. — Может, воды или чая?
Ольга Викентьевна отрицательно качнула головой. И непонятно было, то ли она отказывается от помощи дочери, то ли старается скрыть истинную причину своих рыданий.
— Спасибо, не надо, — в вымученной улыбке скривилась Ольга Викентьевна, и Злата вдруг совершенно по-новому увидела лицо своей матери.
Даже несмотря на свое состояние, она была неотразимо красива какой-то своеобразной красотой, и можно было понять отца, который не мог, да, видимо, и не хотел искать женщину, которая могла бы заменить ему «его Ольгу».
Злата поймала себя на том, что, думая об отце, даже мысленно называет его отцом, и ей вдруг стало неловко за кажущееся предательство.
— Мама, — произнесла она, заметив, что мать пытается спрятать