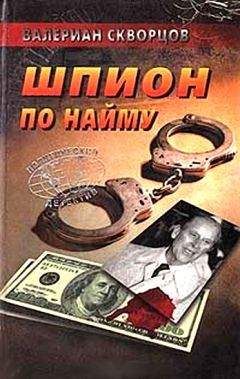— Йоозепп, — сказал я торжественно. — Вы ничего плохого мне не сделали. Вы законопослушный обыватель, обоснованно доносивший на меня полиции. Это можно приветствовать. К выплаченному ранее я прибавляю пятьсот крон за моральный ущерб. Вот… кладу на стол. Их вид будет вдохновлять вас и крепить волю к жизни — по крайней мере, до восьми часов. И очень прошу: не шевелитесь. Вы ведь не хотите, чтобы из-за вашей горячности я стал невольным убийцей? Орать тоже не нужно. Вам едва-едва хватит сил, чтобы продержаться эти четыре часа на ногах… Мой вам совет: не стесняйтесь, мочитесь под себя, когда приспичит. Напряжение физиологического характера не менее чревато бедой. Ну вот, кажется, все…
Странно, как часто я меняю мнение о Шлайне, думал я, собирая вещи. Несколько часов назад мысленно клеймил его как предателя, а он исхитрился предупредить об опасности. Впрочем, как и в случае предательства, случись оно, ничего необычного в этом я не видел — оператор обязан подстраховывать агента, это его работа.
В прихожей я положил на пуфик конверт с тремя сотнями крон. Поверху надписал: «Ийоханнесу Эйковичу, за услуги. Квитанцию заберу позже». Этого достаточно, чтобы полиция придержала таксистскую лицензию полиглота-доносчика.
— Поделим расходы? — спросил Дитер.
Я отрицательно качнул головой.
— Считай это угощением.
Мы вышли из дома задним ходом на задворки, по поленнице перебрались на соседний участок, где, слава богу, собаки не оказалось. Мы пересекли двор, забросанный пластмассовыми детскими игрушками, которые казались какими-то особенно стылыми и печальными под светом убывающей луны. Дитер споткнулся об огромного зайца с морковкой, вмерзшего у песочницы.
— Знаешь, как меня зовет женушка в нежные минуты? — спросил он.
— Заткнись, Дитер. Твой нереализованный сексуальный потенциал не повод для болтовни. Тише… Операция началась.
— И что? — он перешел на шепот. — Так вот… Секс-кроличек!
Я поморщился. Бездна вкуса и нежности, конечно.
Мы вышли на улочку, параллельную Вяйке-Карья. Дальше тянулся кустарник, примыкающий к старинному парку над вымерзшей до дна рекой. До утра оставалось три-четыре часа. Автобусы пойдут через два. Одеты мы были тепло. Вместо офицерских я теперь натянул меховые сапожки Йоозеппа.
— В Пярну, после захвата склада, тебе придется пару-тройку часов продержаться одному, — сказал я Дитеру. — Против контрабандистов. Постарайся до моего прибытия перевести напряженность в русло дружеских переговоров.
Дело склеилось. Мы провели захват амбара в Пярну, не откладывая, после завтрака в гостинице «Каякас».
Прилично одетый Дитер Пфлаум отдавал распоряжения Бэзилу Шемякину, помятому субъекту в дохе искусственного меха и кепке с фетровыми наушниками, как ловчее сбивать замок со стальной двустворчатой двери. Едва приступили, появился начальник кохвика с Пярнуского пляжа. Он немедленно меня вспомнил и без сопротивления расстался с ключом ради сохранности двери как части исторического памятника.
Когда я включил жужжавшие лампы дневного света, на застеленном рогожками каменном полу амбара высветились знакомые картонки, обмотанные синим скотчем и меченные рисунком черепахи. Распоров ближнюю ножом, я вдавил начальника кохвика носом в пахнувшие керосином пачки банкнот. Отчихавшись, парень, трясущимися пальцами набрал на радиотелефоне номер Ге-Пе и оповестил его о налете.
Толстый Рэй велел передать трубку мне. И мрачно сказал, что выезжает.
Оставив Дитера обороняться в одиночку, я приказал начальнику кохвика отвезти меня на «Рено» до развилки Пярнуского шоссе, откуда я смог бы добраться на автобусе до Лохусалу. По дороге я выяснил, что торчавшая из кузова пикапа лестница с красной тряпицей на конце маскирует радиоантенну. Позывные — мелодии Гершвина, потом будут ещё какие-то — чередуются в определенной последовательности. Компакт-диски с записями предоставлены фирмой-изготовителем радиоустановки. Их меняет по собственному графику Толстый Рэй. Диски привозит «морской молдаванин» Прока. «Икс-пять» отвечает такими же позывными по дубликатам…
Я вышел из полупустого автобуса на лохусальской остановке и, пройдя к пансионату напрямик, еловым бором, приметил на стоянке «Ауди» Дубровина. Рядом стоял трепаный прокатный «Опель Кадет», в котором мог приехать Ефим. В вестибюле читал газету Андрей. А у киоска с парфюмерией щурилась над витриной Воинова. Она не решалась надеть очки, и от этого её полусогнутая фигура ещё больше напоминала полуоткрытый перочинный ножик. Наверное, были подтянуты и другие силы, которые сходу не выявлялись.
Народу нагнали не из-за меня, конечно. То есть, из-за меня, но не совсем. Именно на случай, если меня вздумают брать эстонцы. Видимо, такое уже случалось в практике Дубровина или — случилось? Другого объяснения у меня не находилось…
В буфете Шлайн и Дубровин, мрачные и не выспавшиеся, сочились ненавистью за столиком, на котором ничего, кроме пачки сигарет, не было. Возможно, они вообще не спали после того, как Ефим дозвонился до меня в Синди к Йоозеппу. Ненавидели они меня. Им обоим придется, сказал Дубровин, упирая на «обоим», отписываться за все, что я натворил в предыдущие дни. Они оба, вступил в разговор Шлайн, дергавший коленом под столиком, могли бы закрыть глаза на многое, но только не на «вопиющую неуправляемость». Обвинений предъявили три. Первое — жестокое обращение с населением, то есть «повешение» на кухонной люстре Йоозеппа, которого едва откачали от шока полицейские. Второе — несанкционированное вовлечение в оперативные действия агента иностранной спецслужбы, то есть Дитера. И третье — продолжение операции вопреки приказу прекратить её выполнение, то есть преследование Чико Тургенева после состоявшихся консультаций по условиям обмена. А на обмен Шлайн и Дубровин шли.
Оба, в особенности Шлайн, который нес ответственность за мои действия, после ликвидации «куклы» оказались, как я понимал, на грани гибели служебных карьер. Снимок затаившегося на крыше шестиэтажки стрелка ничего не оправдывал. Он не мог считаться стрелком, поскольку ничего такого не совершил. Совершил я. Хладнокровно выждал, прицелился и грохнул невинного, умник. Ни о какой самообороне речи быть не могло. Тем более, не могло быть речи о новом плане действий, который я предлагал.
— Твое предложение, Шемякин, само по себе, даже без его реализации, можно квалифицировать как государственное преступление, — сказал Ефим. — И ты навязываешь его нам, правительственным служащим, да ещё офицерам государственной безопасности.
— Что мы теряем? — спросил Дубровин у Ефима.
— Кроме меня, ничего, — влез я в разговор бюрократов. — Абсолютно ничего, если не считать денег, которые мне перевели в цюрихский банк. Дайте же человеку шанс отработать их!
Ефим хрястнул волосатой ладонью по прыгавшей коленке.
— Деньги, деньги и деньги! Ты весь в этом дерьме!
— Хозяина квартиры в Синди, обрати внимание, я все же подвешивал после твоего звонка бесплатно. А ведь эту работу можно посчитать и как сверхурочную, так сказать…
— Выбирай выражения! — заорал Ефим. — Как ты относишься к людям?!
Краем глаза я приметил, что буфетчица на всякий случай выплыла в подсобку.
— Далее, — сказал я, — насчет отношения к людям и обиженного населения. Я бы предложил вашему вниманию, господа шефы, такое объяснение. Йоозеппа я подвесил, чтобы местные увидели, с кем предстоит иметь дело, и поостереглись от поспешных действий, если бы кинулись вдогонку… Они и не кинулись. Предпочли подать жалобу господину Дубровину. Далее. Пфлаум привлечен с твоего, Ефим, разрешения. Еще далее. Операция и не будет считаться законченной, если я не закончу её так, как предлагаю. То есть, я хочу сказать, что пойду до конца и без вашего утверждения моего плана. Вы так и сможете потом заявить об этом. Шемякин-де вышел из-под контроля…
— Шансов никаких, на мой взгляд, — сказал Ефим, вдруг успокоившись.
— Что мы теряем? — опять спросил его Дубровин.
— Его теряем, меня теряем! Не тебя же! — сказал Шлайн.
— Не я нанимал этого эмигрантского соколика, — огрызнулся Дубровин.
Я подумал, что Дитер все-таки нашел верное выражение: «Русские наняли тебя…»
— Ладно, — сказал я. — Мне пора возвращаться. Просветите насчет всего остального, что у вас теперь происходит…
Они переглянулись.
— Ладно, — опять сказал я. — Посоветуйтесь, что вы можете, а что не можете мне сказать Я отойду на минуту. Что принести от стойки?
— Коньяку и какой-нибудь сок, от такого разговора у меня во рту словно куры нагадили, — сказал Дубровин. И с нажимом продолжил, когда посчитал, что я отошел достаточно далеко: — Ну, что мы теряем, Ефим, раз он сам предлагает стать неуправляемым?
Не понес я им заказанное. Не в услужении. Я допивал вторую чашку кофе с подмешанным коньяком у стойки, когда Ефим положил мне руку на плечо.