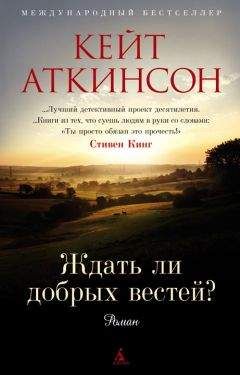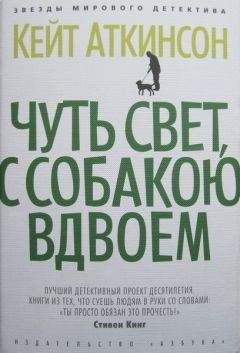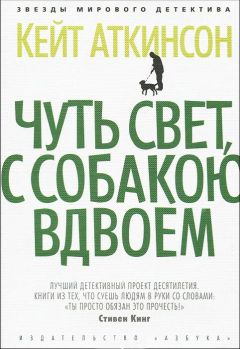Ознакомительная версия.
Надо было взять айпод — слушал бы песни о разбитых сердцах, искуплении и добродетелях простого люда. И зря он выбросил карту; хотя вряд ли эти дороги подчинялись картографии. Если б не столб милей раньше, дорожным знаком заверивший Джексона, что они едут куда надо, он бы уже свернул. (Впрочем, стоит ли доверять знакам?)
Угрюмая красота пейзажа будила в Джексоне уныние, которое лучше бы наружу не выпускать. Здравствуй, мрак, мой старый друг.[39] Прагматику без капли воображения, счастливому кретину жить проще. «Насчет кретина — это ты угадал», — подтвердил голос его бывшей жены Джози в голове.
Дорога на этой земле натягивалась туго и, если не считать редких нырков, взбиралась все выше. Ходи Джексон пешком (господи спаси и сохрани), он бы называл себя в единственном числе, а в машине становился множественным. Они, мы, нас. Мы с машиной, биомеханический сплав человека с транспортом. Паломники на трассе Господней.
Они были одни. Ни единой машины вокруг. Ни тракторов, ни «лендроверов», ни других странников на сих высоких равнинах, вообще никаких больше путников. И ни ферм, ни овчарен — лишь трава, голый известняк и издохшее декабрьское небо. Дорога в никуда.
Однако немало отважных овец бродило вокруг, сторонясь опасностей, которыми угрожала неуклонно к ним приближавшаяся чертовски здоровая «дискавери». На этом грозовом перевале овцы наверняка ягнятся поздно. Может, уже вынашивают. О суягности Джексон раньше не задумывался — удивительно, до чего доводят одинокие странствия. Дочь его недавно объявила, что обратилась в вегетарианство. В ассоциативном тесте Джексон на слово «ягненок» машинально ответил бы «мятный соус», а Марли — «невинный». Убиение невинных агнцев. Ее растили атеисткой, а она изъясняется как мученица. Наверное, католицизм — это что-то генетическое, в крови.
— Стать вегетарианцем — это у нынешних подростков такой переходный обряд, — сказала Джози, когда он приезжал в Кембридж в августе. — У нее все подруги отказались от мяса.
Не будет, значит, у отца с дочерью разговоров по душам за гамбургером.
— Да-да-да, мясо — убийство, это я все знаю, — сказал он, когда они сели за столик в кафе, которое выбрала Марли, «Семена», что ли, или «Корни». (Джексон, к ее досаде, обозвал его «Сорняки».)
Он мечтал о сэндвиче с говядиной и горчицей, но пришлось довольствоваться резиновым бурым рулетом с анемичной начинкой — Джексон думал, это яйца, но выяснилось — о ужас, о кошмар, — что это «болтунья из тофу».
— Ням-ням, — сказал он, а Марли ответила:
— Пап, не надо цинизма. Он тебе слишком идет.
Когда его дочь выучилась говорить как женщина? Год назад скакала, точно трехлетка, по дорожке вдоль реки до Грантчестера (где, если ему не изменяет память, съела салат с ветчиной в чайной «Фруктовый сад» и нисколько не угрызалась, что поедает поросенка Бейба). А теперь эта девочка рванула вперед и исчезла за горизонтом. Отвернешься на минуту — а их уж нет.
Когда у тебя дети, отсчитываешь годы по ним. Не «мне сорок девять», а «моему ребенку двенадцать». У Джози теперь второй ребенок, тоже девочка, два года, как Натану. Каждого из двух с единоутробной сестрой Марли связывает по одной нити ДНК. Натан на Джексона не похож — да и пожалуйста, это ведь не значит, что Натан ему не сын. И Марли на него не похожа. Джулия уверяла, что Натан не от него, но кто и когда верил тому, что говорит его бывшая подруга? Джулия — врунья от природы. И к тому же, понятно, актриса. Поэтому, когда она проникновенно взглянула ему в глаза и сказала: «Ну честное слово, Джексон, это не твой ребенок, я правду говорю, зачем мне врать?» — инстинкт подсказал ему ответить: «А зачем тебе менять привычки?» Она не стала спорить (Я спорю только с теми, кто мне нравится, однажды сказала она) — только посмотрела жалостливо.
Он хотел сына. Сына — учить тому, что знает, учить учиться тому, чего не знает. Дочь он ничему не мог научить — она уже знала больше его. И он хотел сына, потому что он мужчина. Проще простого. Он вспомнил вдруг, как накатило, когда он коснулся головы Натана. Вот такие вещи и лишают жизненных сил навеки.
Да и вообще, сказал он Джози, с каких это пор двенадцать — подросток?
— Подросток — это тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ей всего двенадцать.
— Тут важно, что двузначное число, — обронила Джози. — Они теперь начинают рано.
— Что начинают?
Сам Джексон пережил подростковый возраст, даже не заметив. В двенадцать мальчишка, в шестнадцать пошел в армию и стал мужчиной. В промежутке бродил долиною смертной тени,[40] и утешаться ему было нечем.
Он надеялся, у дочери эти годы будут солнечными. В кармане куртки лежала ее мятая открытка — в каникулы она ездила на школьную экскурсию в Брюгге. На открытке — живописный канал и старые кирпичные дома. В Бельгию Джексона никогда не тянуло. Открытку он переложил из старой кожаной куртки в маскировочную «Норт фейс», сам толком не знал зачем, — но послание дочери, хоть и банальная принудиловка («Милый папа, в Брюгге очень интересно, тут много красивых зданий. Идет дождь. Съела гору картошки и шоколада. Скучаю! Люблю! Марли XXX»), выбрасывать как-то неуместно. Правда скучала? Жизнь ее так полна, подозревал Джексон, что его отсутствие незаметно.
Всклокоченная овца, видавшая виды баранина, решительно воздвиглась на дороге, будто наемный стрелок в ожидании, когда наступит ровно полдень. Джексон притормозил, остановился и подождал. Овца не шевелилась. Он подавил на гудок, но овца и ухом не повела, жевала себе траву, безмолвная, как дряхлый табачник. Может, глухая. Джексон вылез из машины и угрожающе посмотрел на овцу.
— Ну, ты стрелять будешь или «Дикси» свистеть?[41] — спросил он.
В глазах у овцы мелькнул интерес, затем она снова задвигала челюстями.
Он попробовал ее сдвинуть. Овца сопротивлялась, упираясь всем своим глупым весом. Почему она его не боится? Он бы на ее месте испугался.
Потом он попытался сдвинуть ей зад, ухватиться покрепче и переставить ей ноги, но не вышло — овцу как будто приварили к земле. Лоб в лоб тоже не получилось. К счастью, вокруг ни души — никто не видит этот нелепый спарринг. А врезать ей между глаз — это этично? В поиске новых тактических решений Джексон отступил.
В конце концов он решил подсечь овцу под передние ноги, но сам потерял равновесие и растянулся. По бледному зимнему небу дрейфовало облачко еще бледнее, белое и мягкое, как ягненочек. Лежа навзничь, Джексон следил, как оно ползло через всю долину. Когда холод пробрал до костей и уже взялся за костный мозг, Джексон вздохнул, встал и отсалютовал противнику.
— Ты выиграла, — объявил он овце.
Забрался в машину, включил плеер и поставил Энию. Проснулся — вокруг никаких овец.
Да уж, на карте этой глуши не найдешь. Небо налилось свинцом и вот-вот извергнет снег. Все выше, выше, в вышину, к таинственной вершине. В град небесный. Дорогу то и дело преграждали ворота — мучительно всякий раз выходить из машины, открывать, закрывать за собой. Это, наверное, чтобы овцы не разбегались. А пастухи-то еще есть? Заросший бородой мужик в самодельном овчинном тулупе сидит под звездами на травянистом склоне, в руке посох с бараньим рогом, стережет волков, что на пузах подбираются к стаду, — примерно так Джексон представлял себе пастуха. Сам удивлялся, до чего поэтично, подробно и ненатурально. На самом-то деле сплошь тракторы, гормоны и химобработка. И давно пропали волки — во всяком случае, те, что в волчьих шкурах. Джексон и сам пастух, нет ему покоя, пока стадо его не посчитано, не загнано в спасительную овчарню. Таково призвание его и проклятие. Служить и защищать.
Судя по снегомерным вехам у дороги, снега тут наваливает на три метра. Джексон опасливо покосился на небо — не хотелось бы застрять в пургу, никто же не найдет. Придется окопаться до весны, постричь пару овец на одеяла. Никто не знал, что он здесь, он никому не сказал, что уезжает из Лондона. Если заблудится, если что-нибудь с ним случится, никто не знает, где искать. Если б тот, кого он любит, потерялся, Джексон землю бы носом рыл, но есть ли такие, кто станет рыть носом землю ради него, — большой вопрос. (Я тебя люблю, говорила она, но еще неизвестно, крепка ли ее любовь.)
Он миновал заборный столб — на верхушке крестоцветом застыла какая-то хищная птица, ястреб, что ли, или сокол. Джексон в птицах не разбирался. Канюков, впрочем, узнал — два черных, почти бумажных силуэта лениво кружили над пустошью, будто на посадку заходили. Коль не был тчив живучи ты и сто нощей спустя, наг и бос пройди кусты; Христос приимет тя. Господи, а это откуда взялось? Из школы, ну понятно. В детстве Джексон застал моду на зубрежку. «Поминальная песнь».[42] Первый год в средней школе, жизнь еще не сошла с рельсов. Он вдруг увидел воочию, как под вечер стоит перед угольной печкой в их домишке, читает стих, завтра будут спрашивать. Сестра Нив слушает, поправляет, словно катехизис вбивает ему в башку. Он почуял уголь, почувствовал, как жарко голым ногам, — он в шерстяных штанишках серой школьной формы. Из кухни пахнет простецкой едой — мать что-то готовит к чаю. Если Джексон забывал слова, Нив била его по ноге линейкой. Вот так вспоминаешь — поразительно, сколько было дома бездумной жестокости (и сестра ничем не лучше отца и брата), тычки и затрещины, дергали за волосы, таскали за уши, «крапивку» делали — богатый лексикон насилия. Только так и выражалась любовь. Может, потому, что из шотландских и ирландских генов, перемешанных родителями, получился неудачный коктейль. Может, потому, что денег не хватало, а жизнь в шахтерском городке тяжела. А может, им просто нравилось друг друга мучить. Джексон в жизни не ударил ни женщину, ни ребенка — разрешил себе лупить только собратьев по полу.
Ознакомительная версия.