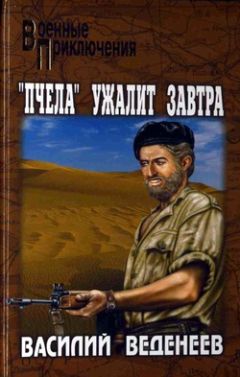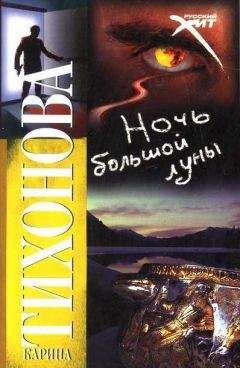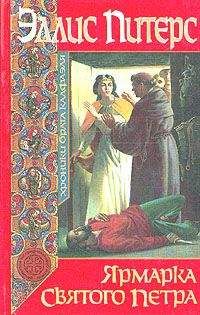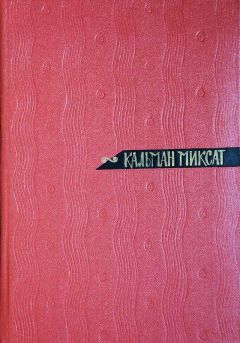слишком много красного… красного, зеленого и белого. Белое лицо, белые волосы и тусклые глаза выплывают из красного мира, а где-то рядом белые пальцы на зеленом теле.
Остановить. Остановить, во что бы то ни стало.
Затылок ломит. Это ярость, как тогда, на зоне. Тогда в руках противника был нож… тогда получилось. И теперь получится.
Сердце съеживается в комок, пропуская удар, а тело само прыгает к бело-зеленому пятну. В руках бьется добыча. Теплая. Пахнет духами и железом.
Черная магия. Где-то в подземелье сознания ютится память, которая утверждает, будто «Черная магия» — плохой запах. Пусть.
Сердце снова стучит. И кровь шумит в ушах. Пальцы онемели. Правильно, в руке — рука, а в той руке граната. Романтика блин.
— Мы — психи. — Печально замечает Сущность.
— Ты — псих. — Вторит ей усталый мужик с тоскливым взглядом брошенного пса.
— Знаю. — Онемевшие губы с трудом пропускают слова.
— Тимур… Тимур, осторожнее. — В зеленых глазах страх. Страх за него? Странно. Раньше с ним такого не случалось, раньше боялся он, а, чтобы вот так… неугомонное сердце подпрыгивает от радости. А в голень врезается острый каблук.
Соня брыкается. Пускай брыкается. Главное, чтобы не вырвалась.
Доминика
Когда Салаватов сделал это, я испугалась, испугалась до смерти. Господи, ну почему он такой идиот?! Пусть бы она ушла! Пусть бы убралась к чертовой матери! Какое право он имел рисковать собой?! Псих, натуральный псих.
В этой истории чересчур много психов.
А хватка у Тима мертвая. И решительности хватает: когда Соня попыталась ударить в пах, он сдавил горло, так, что у нее дыхание перехватило. А потом, когда она почти потеряла сознание, выволок из палаты. И, думаю, вообще из больницы.
А Иван Юрьевич потом сказал, что Салаватов держал Соню до приезда спасателей.
Граната оказалась боевой.
Господи, как подумаю, что он в любой момент мог умереть из-за своего непробиваемого упрямства, становится плохо.
Соня сидит в следственном изоляторе, а я все еще лежу в больнице.
Зачем она рассказала все, как есть? Время тянула? Хотела усыпить бдительность? Просто, чтобы похвастаться? Не знаю, Соня, как и обещала, молчит. Отказывается сотрудничать. Пускай. Не хочу ничего знать про Соню.
Кукушка иногда заходит. Детали уточнить или просто, чтобы поговорить. Он заходит, а Салаватов нет. Тим про меня забыл.
Точнее, я перестала нуждаться в его защите, а, значит, можно заняться собственной жизнью, предоставив мышь тушканчиковую, младшую сестру бывшей невесты самой себе. Я ведь не пропаду, я ведь теперь богатая наследница.
А еще, что бы там не говорила Соня, я знаю, где спит ангел, осталось лишь проверить догадку.
Сегодня меня выписали. На ноге еще гипс, но рана под лопаткой почти зажила, а, значит, можно домой. Вызываю такси. Жду. В холле пусто. Совсем, как у меня в квартире, правда, в квартире обитают неприятные воспоминания, но, делать нечего, я не имею права навязываться Тиму, я и так ему жизнь испортила.
Медсестра знаком показывает, что такси приехало. Поднимаюсь — с костылями дико неудобно, кто их только придумал — и кое-как ковыляю к выходу.
— Помочь? — Над ухом раздается до боли знакомый голос.
— Тим!
— Только, давай без слез. — Он улыбается, у меня же против воли на глаза наворачиваются слезы. Нет уж, плакать не буду. Ни за что в жизни не буду плакать перед ним. Мне не нужны одолжения, пусть убирается. Пусть убирается к чертовой матери, я же поеду домой и наплачусь вволю!
— Тише. — Шершавая ладонь скользит по щеке. — Что мне сделать, чтобы ты не плакала?
— Ничего.
— Совсем?
— Совсем.
— Тогда поехали домой.
— Не хочу домой. — Совершенно не к месту вспомнились обои, этажерка и картина на стене, после случившегося я не смогу жить в этой обстановке! — Я у тебя жить буду.
— А по-другому и не получится. — Совершенно не к месту сказал Тимур.
— Все умерли. Все-все. Смотри, что у меня есть. — Наталья показала сжатый кулачок. Белая-белая, словно толченый мел, кожа некрасиво обтягивала кости. Вздутые синие вены казались уродливыми щупальцами болезни, что засела в этом хрупком теле. Только глаза остались прежними — спокойные и веселые, неподвластные ни боли, ни безумию.
Ничего нету. — Натали разжала ладонь. — Пусто, пусто. Пусто. У меня в ладошке есть пусто, посмотри! Она улетела!
— Кто улетел, милая? — Аполлон Бенедиктович ласково обнял супругу.
— Душа. Она сидела на ладони, а потом вдруг улетела прочь. Раз и нету. Почему вокруг пусто? И темно? Почему темно?
— Ночь, поэтому темно. Ночью всегда темно, ты же помнишь?
Натали спрятала ладошки под одеяло, словно боялась замерзнуть.
— Николай, ты не должен сердить Олега. — Серьезно произнесла она. — Он расстроится, если узнает правду, не говори ему, хорошо?
— Не скажу.
— Почему ты приходишь так редко? Вы совсем меня забыли. Вы к ней, вы все к ней ушли, а меня забыли. Я же не хотела… — Ресницы задрожали, и по снежно-белой щеке скатилась первая слеза. Аполлон Бенедиктович привычно смахнул ее пальцем и столь же привычно удивился, насколько неживая, холодная кожа у Натали.
— Вы же знаете, что я не хотела, вы же простите меня, верно? Скажи, что простите?
Палевич обнял супругу. Он был готов простить ей все, но как сказать, как донести это до ее разума, выстроившего свой собственный мир. Возможно, следовало прислушаться к советам врачей и отдать Наталью в клинику. Сейчас много клиник, где лечат душевные расстройства, но Аполлону Бенедиктовичу подобный выход казался предательством. Одна Диана его понимала, спасибо ей за то, что не уехала тогда, после смерти Охимчика. Впрочем, Палевич прекрасно понимал, что ей попросту было некуда ехать, и на место компаньонки Натальи согласилась она от безвыходности.
Так и жили втроем: Палевич, Наталья и Диана. Тува четвертый, впрочем, его ни в коей мере нельзя было назвать человеком. А с недавнего времени у Аполлона Бенедиктовича появился секрет. Грязный, постыдный секрет из тех, что разрушают сказки о вечной любви. У секрета бесстыжие зеленые глаза, рыжие волосы и личико невинной пастушки.
Вчера Диана призналась, что ждет ребенка, и Палевич, глядя в беспомощные серые глаза жены, осознавал, что она никогда не сможет родить здоровое дитя, и пытался убедить себя, что счастлив. Только вот счастье стыдное, ворованное, проклятое какое-то счастье.
Диана не требует признать ребенка, она настаивает, чтобы дитя носила ее фамилию. Все из-за Николая Камушевского, Диана уверена, что, если ребенок будет Салаватовым, то проклятье его не коснется, ведь прокляли-то Палевича.
Тяжело с краденым счастьем.
— Олег, это ты? — Слезы исчезли, и на