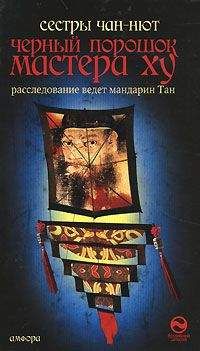«Отвернулась с подчеркнутой гордостью» — так можно определить ее поступок в тот день, когда, взяв котомку, она распрощалась с семьей мужа, внезапно разбогатевшей благодаря ее дару. Ей даже стало жаль этих мужчин и женщин с лицами настолько обыкновенными, что она с трудом запомнила их, когда они, приниженно смущаясь, путаясь в выражениях благодарности, кланялись, соблюдая этикет торжественного прощания. Шелковые одежды — и хлопчатобумажная блуза. Добропорядочные горожане — и бродяга.
В первое время она воспринимала свое бродяжничество как освобождение. Она восхищалась блеском, с которым ей удалось смыть с себя все обвинения в корысти. С каким торжеством покинула она город, эта красавица Аконит, потрясая, словно знаменем, своей уязвленной гордостью!
Однако кража кур на закате, холодные ночи среди корней дерева, пробуждения дождливым утром, когда всклокоченные волосы издают запах совиного гнезда, — все эти приключения вскоре утратили свое очарование. Одинокими бессонными ночами, когда завеса дождя сменялась покровом тумана, обеспокоенная полным бесправием такого существования, она снова и снова перебирала в памяти этапы своего падения. Она должна была признаться: ей больше не приходилось искать и выбирать эту свободу — теперь ей надо было ее переносить. И тогда она стала неосознанно искать общества себе подобных. Ведь бродячие собаки сбиваются в стаи — так же поступают и люди.
Ее товарищи по несчастью, такие же отверженные, как и она, учили ее искусству выживания; она же несла им свою культуру и остатки утонченности. Сидя вместе у догорающего костра, они мечтали о мире, в котором будут жить только чистые сердцем и мудрые люди.
Мало-помалу идея о возвращении к городской жизни стала все чаще звучать в их разговорах. Они остановили выбор на родном городе Аконит: благодаря своим связям с чиновниками, она могла добиться, чтобы каждый из ее новых товарищей получил поручителя. Вот так толпа оборванцев, постучавшихся однажды в ворота города, и получила в пользование непаханые земли на берегу реки.
По крутой, неудобной тропинке молодая женщина спустилась к соломенным хижинам, рассыпавшимся по глинистому участку. Тонкие струйки дыма, поднимавшиеся из очагов, своим едким запахом напоминали ей о годах странствий, вызывая чувство, похожее на ностальгию. Несколько худых мужчин с узловатыми руками, засеивавших наудачу маленький клочок вскопанной земли, издали помахали ей. «Да, работой в городе трудно прокормиться», — подумала Аконит, толкая дверь своей лачуги.
Она заметила его, когда обернулась, чтобы закрыть дверь. Мужчина, молчаливый и задумчивый, стоял на холме, наблюдая, как она входит в дом. На лице его читалась странная жалость по отношению к этому убогому селению и изрытым дорогам. Он показался ей наивным и трогательным в своей неловкой неподвижности. Он словно разрывался между состраданием и соблюдением приличий, словно не знал, что ему делать: подойти ли к этим изгоям или вернуться в респектабельные кварталы. Женщина из-за двери рассматривала высокую фигуру, пока та не растворилась в сумерках. Она улыбнулась. Мандарин проводил бродягу до дома.
* * *
Я — небо, я — бездна. Во мраке моего мозга плавятся сверкающие огни далекого очага. После этого напитка, холодного, как перст смерти, тело мое содрогается в спазмах, сгорая на пожирающем меня внутреннем огне. У висков моих тысячей цветных огоньков взрывается сверкающее пятно: невидящим глазом я различаю красноту, выделяющуюся на фоне горящего золота, а затем капля пурпура из морских пучин, рассыпаясь множеством брызг, заливает сверкающий след купоросной зеленью. Мне кажется, что я плыву — нет, лечу! — в этом беззвучном пространстве, касаясь кончиком пальцев горящих, как угли, звезд и лаская спину ветра.
Где я? И все же мне знакомо это место, повисшее двух жизней, ибо я был здесь уже много раз и с каждым возвращением испытываю все то же чудесное чувство — нетто среднее между восторгом и ужасом… Находясь вне этого пространства, я всеми способами стремлюсь оказаться там снова. Но зачем? Что я хочу там найти? Это жуткое ощущение пустоты, эти осколки света, что впиваются мне в мозг и в зрачок, словно занозы из ртути? Здесь я летаю. Я переношусь в места, которые, несомненно, создал сам — из своих снов, своих воспоминаний… своего будущего? Пылающие шары зовут меня, и в мгновение окая касаюсь их своим оцепеневшим телом. Я гляжу в глубину этих сияющих колодцев, и необычайно прохладные покровы охватывают меня словно невесомым саваном. Какие одетые в свет чудовища, с переливающейся чешуей на раскрытых крыльях, с острыми, как изломанная линия молнии, когтями будут еще обольщать меня и лишать зрения?
Содрогнувшись в последний раз, Сю-Тунь встряхнулся. Открыв один глаз, в котором все еще кружились светящиеся точки, он ошарашенно оглядел холодную темную комнату. Солнце садилось, и сгоревшая дотла ароматическая палочка наполняла воздух тонким запахом апельсинового дерева. Сколько времени пролежал он на выложенном плитами полу, отчего все суставы у него одеревенели? Он потер запястья и с трудом сел на стул, с которого, по-видимому, и свалился. Шатаясь, он прошел к окну, распахнутому в сад, закрыл его и направился к стоящей на комоде фарфоровой миске с водой. Какое-то мгновение иезуит рассматривал помятое лицо, отражавшееся на поверхности воды, затем обильно смочил лоб и все тело ледяной жидкостью. После чего, выбившись из сил, повалился на стол, уставив невидящий взгляд на медный стаканчик в красных пятнах.
* * *
Монах по имени Приветливое Смирение поспешал в своих кожаных сандалиях по красной тропинке. Подвески из цветного хрусталя изящно раскачивались при ходьбе, отбивая такт его шагов серебристым звоном, которому вторило более тихое побрякивание бус, украшавших его шею. В сгущавшихся сумерках никто не замечал этого переливающегося чуда, которое он надел вдобавок к своим обычным монашеским бусам, сделанным из простого душистого дерева. Он потер идеально круглую бусину, с удовольствием ощущая прикосновение гладкой, молочно-белой поверхности. Госпожа Ха, недавно овдовевшая наследница огромного состояния, проявила прямо-таки неблагоразумную щедрость. Но что он, бедный монах, мог поделать, если наследнице вздумалось насыпать ему пригоршню этих побрякушек? Опустив глаза долу, он попытался было отказаться от подношения, сделанного в момент душевного расстройства, однако немощная старая женщина и слушать ничего не захотела, буквально повиснув у него на рукаве и тыча в него ладонями, полными колец и драгоценных камней такой чистоты, словно то были очи самого Будды. С достоинством поклонившись в знак приветствия проходившему мимо крестьянину, Приветливое Смирение внутренне так и задрожал от радости при мысли об этих сверкающих вещицах, которые вопреки его воле оказались в складках его одеяния и теперь позвякивали где-то среди скромных пожитков, между потрепанным плащом и котомкой.
В безмятежном расположении духа монах легким шагом продвигался вперед, наблюдая, как ложатся поверх размытой, почти прозрачной голубизны вечернего неба охристо-желтые мазки. Краснея в сумерках, тропинка змеилась меж рисовых полей. Чем дальше он уходил от города, тем меньше ему попадалось встречных, и когда рядом не осталось ни одной матери семейства и ни одной торговки, которых требовалось благословить. Приветливое Смирение позволил наконец тяжелому бирюзовому браслету, что все это время стискивал до боли его предплечье, занять свое место на запястье. Он поднял руку с ароматическими палочками и, залюбовавшись голубоватым отблеском камней, рассмеялся кокетливым смехом, еще больше обозначившим его двойной подбородок.
Кладбище было уже близко, а потому он усердно пересчитал все лепешки и бананы, которые вручила ему безутешная вдова с тем, чтобы он возложил их на могилу столь внезапно покинувшего ее мужа. Сейчас он воскурит несколько палочек, красиво разложив дары вокруг вазы с туберозами, а потом расскажет старушке о том, как сходил на кладбище, и она, глядишь, и утешится немного. Позвякивая подвесками, монах свернул на поросшую травой дорожку, ведущую к могилам. Спугнув какую-то ящерицу, он немилосердно пнул ногой жабу, с громким кваканьем скрывшуюся в зарослях.
Отыскав нужную могилу, Приветливое Смирение растерянно икнул: куда же он положит лепешки из клейкого риса, гранаты и свиные отбивные? Свежая могила дорогого, безвременно ушедшего мужа была пустынна, как столетняя развалина. Надгробный камень и алтарь для подношений бесследно исчезли, оставив по себе лишь прямоугольник земли, голой, как невозделанное поле.
* * *
Встопорщив от натуги усы, рыба-кот, выписывая нескончаемые круги, в ярости металась по миске. Неподалеку, в плену тростниковой корзины сталкивались тяжелыми помятыми панцирями крабы со связанными бечевкой клешнями, ровными рядами лежали выпотрошенные и освобожденные от своего последнего обеда креветки, растянувшись на деревянной доске рядом с ножом, которым их только что разделывали.