высоким воротом, застегивающаяся сзади на пуговицы. Отправляю короткое электронное письмо, в котором сообщаю, что со мной связались по поводу участия в работе группы критиков, и мне интересно, назначила ли она дату. Затем я приступаю к подборке музыкальной критики шоу. Звуковой сигнал оповещает, что Фэй ответила. На конференции не запланировано подобных дискуссий, они не проводились уже целую вечность. Хотела бы я предложить такую дискуссию на следующий год? Есть ли у меня на примете координатор? Хотела бы я сама выступить координатором?
Едва доверяя своим пальцам, я отправляю ей короткое сообщение о том, что, должно быть, ошиблась и что подумаю над ее предложением. Нажимаю «отправить» и направляюсь вглубь библиотеки, чтобы посмотреть номер American Stage.
Обычно я отправляю электронное письмо или текстовое сообщение, наслаждаясь расстоянием, которое обеспечивает экран.
Но нынешняя ситуация совсем не типичная, и я хочу получить ответы как можно быстрее. На мой звонок отвечает секретарша, и я спрашиваю Рона Диаса, главного редактора, человека, которого знаю по прошлым встречам в Кружке критиков.
– Рон! – восклицаю я, когда меня соединяют. – Прошло слишком много времени. – Я стараюсь, чтобы мой сценический шепот звучал весело и общительно, как у маленького духового оркестра. – Мне так жаль, что я не смогла сделать репортаж о фестивале для тебя, но ты меня знаешь, я тепличный цветок. Я увядаю за пределами города.
– Все в порядке, Вив, – отвечает он. – На днях мы что-нибудь для тебя подберем. Что-нибудь местное.
– Отлично, – произношу я бодро. – Не могу дождаться. И послушай, это может прозвучать безумно, но один аспирант сообщил мне, что готовит январскую дискуссию, что-то о критиках и о том, почему здравомыслящие люди хотят стать критиками. В любом случае, он сказал, что вы обещали опубликовать отрывки, и я просто хотела убедиться, что все это соответствует действительности, прежде чем соглашаться. – Что, конечно, мне следовало сделать в первую очередь.
– Честно говоря, это звучит странно, – сомневается Рон. – Но позволь мне проверить. Как зовут этого человека?
– Дэвид Адлер, – произношу я как можно более нейтрально.
– Дэвид Адлер. – Он растягивает слоги, и я слышу, как он щелкает, словно насекомое, набирая это имя на клавиатуре. – Нет, – говорит он. – Я не вижу ничего подобного в своей почте. И я просмотрел памятку по планированию февральского выпуска, и там ничего не говорится о подобной группе. Ты уверена, что он сказал American Stage?
– Мне так показалось, – мямлю я. – Но, должно быть, я неправильно поняла.
– Может, он имел в виду Theater Year или Journal of the Stage?
– Скорее всего.
– Или, вероятно, таким образом он заставляет симпатичных девушек говорить с ним о структуре драматургии.
– Рон! – Я заставляю себя рассмеяться, мой смех, как звон разбитого стекла. – Это очень своеобразный обман! В любом случае, спасибо. Не хочу убегать, но у меня очень ранний спектакль. Поговорим позже.
Раннего спектакля нет. Шоу начнется только в восемь. Я выхожу из библиотеки и в оставшиеся часы хожу от квартала к кварталу, растворяясь в вечернем воздухе, позволяя улицам вести меня куда угодно. Я иду достаточно быстро, чтобы не думать о Дэвиде Адлере, о том, как мало из того, что он мне сказал, было правдой. Возле Пенсильванского вокзала мой взгляд цепляет ребенка в красном плаще. И тут я вспоминаю, что хотела сказать Джейку Левитцу о мужчине, с которым Дэвид Адлер чуть не столкнулся, когда мчался в сторону Томпкинс-сквер, о замешательстве Ирины, когда я упомянула о кепке этого человека. Джейк Левитц рассказал мне о том, как головорезы из службы безопасности Сирко обыскивали офис Дэвида Адлера в то утро, о том, как они избили его после этого. Тот человек на улице, тот человек в красной кепке, был одним из них? Он следил за Дэвидом? Поэтому Дэвид сбежал? Мог ли этот человек видеть нас вместе? Стоило ли мне вообще упоминать о нем при Ирине? Я не замечаю, что дрожала, пока не оказываюсь в вестибюле театра, где дают «Мамашу Кураж», и дрожь, наконец, прекращается.
Калеб на месте работает для одного из веб-сайтов, одетый так, словно готовится к бар-мицве, в вязаном жилете, рубашке с воротником-стойкой и галстуке-бабочке, в его блестящих волосах маслянистой радугой отражается свет. Я пытаюсь проскользнуть мимо, но он ловит мой взгляд.
– Привет, Вивиан! – произносит он голосом, похожим на застывший сироп. – Твоя статья о Трусе? Люто. Мне понравилось. Типа, я никогда не смог бы так написать. Но я очень рад, что ты можешь. И разве ты сама не в восторге от этого? Я знаю, что говорят об эффекте отчуждения [15], но я всегда чувствую себя таким близким к Брехту, а ты?
Я не знаю, что сказать в ответ.
– Конечно. Вот почему я заказала это кольцо: «ЧБСБ». Что бы сделал Бертольд? – Я оказываюсь на своем месте прежде, чем он понимает, что на мне нет кольца.
Достаю свой блокнот и напряженно, как канатоходец перед первым шагом, жду, когда погаснет свет. Занавес открывается, звучит народная песня. И на мгновение я начинаю беспокоиться, что это чувство не придет, что повседневные заботы встанут на пути к трансцендентности, к переносу. Но вот он, этот внутренний щелчок. Ощущение того, что я выхожу за пределы себя и оказываюсь в жизни персонажей. Так что, как бы мне ни было неприятно соглашаться с ним, Калеб прав. Я не чувствую отчуждения. Я чувствую себя успокоенной и цельной, даже счастливой, я наблюдаю, как накапливаются монеты и умирают дети. Я не думаю о своей собственной матери. Я не думаю о Дэвиде Адлере. Я почти не думаю о пьесе – это будет позже, в одиночестве, когда я разберу ее на части и снова соберу на экране своего ноутбука. Но пока идет спектакль, я сижу, окруженная темнотой, и чувствую, каково это – быть живой.
Глава 4
Риторический вопрос
Вернувшись домой, я глотаю ледяной водки, затем чищу зубы и ложусь в постель, хотя некоторое время не могу уснуть, прокручивая сцену за сценой, мои глаза открыты и блестят в темной комнате, слышно, как влажно булькает радиатор. Утром, выпив еще немного ибупрофена и столько кофе, сколько в винной лавке могут продать без специально разрешения, я готова несколько часов писать и редактировать. Я представляю себя в фургоне Мамаши Кураж, выживающего среди ужасов войны, затем выбираюсь из него, переплетая эмоции и анализ, пока они не складываются в аккуратные абзацы. И все же, как только я нажимаю «сохранить» и «отправить» и закидываю в рот горсть


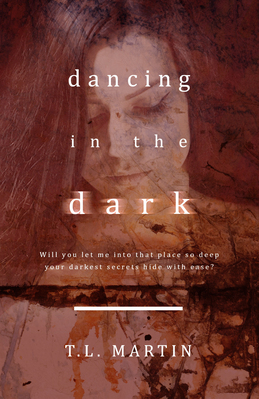


![Владимир Набоков - Смех в темноте [Laughter In The Dark]](https://cdn.my-library.info/books/137611/137611.jpg)