сухих хлопьев, мысли о Дэвиде Адлере мгновенно возвращаются.
Я напоминаю себе сказанное Роджером, что я должна отказаться от роли девушки-детектива, и вместо этого сосредоточиться на своем пути к работе, о которой я мечтала, работе, которая дала бы мне некоторое чувство принадлежности, постоянства. Но театральный критик рецензирует спектакли, и представление Дэвида Адлера меня раздражает. Потому что я не распознала в этом спектакль, пока не стало слишком поздно. Потому что это было так близко к моему состоянию и мироощущению. Я не знаю, было ли показанное им искусством или жизнью, но мне необходимо это знать – чтобы я могла судить об этом, классифицировать, отложить в сторону и перейти к следующему шоу. И все же я не должна рисковать, вовлекая себя дальше. Не ради незнакомого мне мужчины. Кроме того, не представляю, с чего мне начать? К счастью, прежде чем мой разум успевает завязаться в новые зацепки и узлы, он выуживает одну из лучших строк Брехта: «Сначала еда, потом этика».
Под небом цвета бронзы, грозящим первым снегом, я выхожу из вестибюля здания и бреду по парку Томпкинс-сквер, трава вокруг уже хрупкая, баскетбольные площадки пусты, разбросанные фантики от конфет серебрят дорожки и колючие кусты. С игровой площадки доносятся детские визги и лай собак, но даже они кажутся приглушенными из-за низко нависающих облаков. Парк – это общественное пространство, скрывшее Давида Адлера от моего взгляда, и вот спустя недели я ищу его и ловлю вспышку – синюю, красную? – с другой стороны фонтана. Я вглядываюсь внимательнее, но вспышка исчезает. На мгновение становится трудно дышать, поэтому я сажусь на скамейку, прижимая колени к груди, пытаясь сберечь тепло. Дорожки и деревья отступают, пока все вокруг не становится похоже на декорации – искусственные, иллюзорные, такие штуковины, которые можно разобрать за считаные минуты с помощью всего лишь одной кувалды и шуруповерта.
Прежде чем пойти дальше, я хватаюсь за подлокотник скамейки так сильно, как только могу, ледяной, твердый металл впивается в мои пальцы. «Это твои пальцы, – говорю я про себя, – это твоя рука». Но как только я начинаю успокаиваться, у меня возникает тошнотворное ощущение, что за мной наблюдают. Я снова смотрю на фонтан, а затем верчу головой, как сова, влево, потом вправо. Осматривая территорию, мой взгляд натыкается на кучу старой одежды у подножия вяза примерно в двадцати футах от меня, и почти сразу я осознаю, что куча – это не просто одежда. В коричнево-синем ворохе просматривается фигура, по-видимому, мужчины, хотя что-то в наклоне тела кажется совершенно неправильным. Он не в отключке. Он не спит. Он точно не греется на солнышке в этот пасмурный день.
Я встаю со скамейки и осторожно подхожу к дереву, теперь отчетливо ощущая гравий под ногами; холодный воздух сжимает мое горло, словно руки душителя. Приближаясь к телу, я вижу, что лицо закрывает капюшон толстовки. Это не может быть Дэвид Адлер, не так ли? Вся одежда не та, и, кроме того, он пропал несколько недель назад. Томпкинс-сквер – не самый ухоженный из городских парков, но человек не мог оставаться здесь так долго незамеченным. Даже крысы запротестовали бы. Тем не менее, наклонившись чтобы получше рассмотреть, я ощущаю кислый запах. Большим и указательным пальцами хватаю край хлопчатобумажного капюшона, осторожно оттягивая его назад.
Когда лицо становится четким, я вижу его – Дэвида Адлера.
И тут меня охватывает ужас. Стискивает так сильно, что мне становится трудно дышать. Но когда я заставляю себя вдохнуть, понимаю, что это обман зрения или разума. У мужчины, лежащего на земле, коротко подстриженные черные волосы и морщинистая, пожелтевшая кожа, похожая на кожуру сморщенного лимона, с белым шрамом, тянущимся вверх от губы, которая загнулась вверх от испорченных зубов, будто искала место получше. Никогда в своей жизни я не видела этого человека. Онемевшими пальцами я принимаюсь рыться в кармане в поисках телефона и вздрагиваю, когда он выскальзывает у меня из рук и, срикошетив от ноги мужчины, падает на землю. Я приседаю на корточки, чтобы поднять его, и набираю 911. Пока жду соединения, слышу тяжелый, хриплый выдох, царапающий рот. Смотрю вниз на тело, удивленная, сбитая с толку – и только потом понимаю, что звук вырывается из моего собственного горла.
– Здравствуйте, – бормочу я, когда диспетчер отвечает. – Я нахожусь в парке Томпкинс-сквер и хочу сообщить о смерти. – Говоря это, я поднимаюсь, мое сердце колотится так, словно пытается выломать ребро. И вдруг, без предупреждения, черная волна захлестывает меня, засасывая в себя, пригибая к земле, и я падаю так близко от тела, что наши руки почти соприкасаются в каком-то ужасном, неудачном объятии. Я слышу, как блеет телефон, лежащий на сухой траве рядом со мной:
– Мэм, мэм?.. Мэм, вы меня слышите? – И теряю сознание.
* * *
Парамедики нашли меня сидящей обхватив руками колени. Они окружили тело мужчины, пощупали запястье, приподняли ему веко, чтобы официально констатировать очевидную смерть. Затем тот, что покрупнее, тщательно выбритый белый мужчина с мощной шеей, по которой от воротника ползло татуированное пламя, опаляя правое ухо, обратив свое внимание на меня, уточняет, не кружится ли у меня голова.
– Немного, – откликаюсь я. – Я потеряла сознание, когда обнаружила тело.
– Дуэйн, – рявкает он коллеге, – принеси одеяло. Она в шоке.
– Нет, правда, я в порядке. Я иногда падаю в обморок. Я шла на ланч через парк, направлялась к закусочной на Би, понимаете? И я сегодня не завтракала, так что, наверное, у меня уже кружилась голова, а тут еще я увидела его и… – Я слышу свой надломленный голос. Но, кажется, я не могу замедлить свою речь, понизить тон или проявить характер, контролировать себя. Потому что история разворачивается прямо передо мной, и у меня нет возможности оставаться в стороне с ручкой в руке.
– Ш-ш-ш, – говорит мне другой парамедик, мужчина с темно-коричневой кожей, тугими косичками и походкой танцора. – Все в порядке. Сейчас мы все сделаем. – Он накидывает мне на плечи шуршащее серебристое одеяло, нежно, как мать, защищающая своего ребенка от холода, затем ведет меня обратно к скамейке, на которой я сидела раньше. – Вы ведь не из веганов или сыроедов? – уточняет он.
– Что? Нет.
– Подождите.
Он уходит почти вприпрыжку и возвращается минуту спустя с чашкой густого кофе со взбитыми сливками и пончиком в шоколадной глазури.
– Съешьте, – требует он. – Вам нужен сахар.
– Я правда не думаю, что у меня шок.
– Съешьте.
– Надеюсь, оно органическое? – Я дожидаюсь, пока раздражение отразится на его лице, прежде чем откусить пончик. –


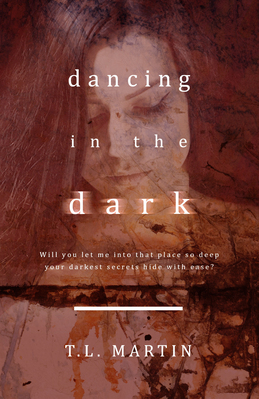


![Владимир Набоков - Смех в темноте [Laughter In The Dark]](https://cdn.my-library.info/books/137611/137611.jpg)