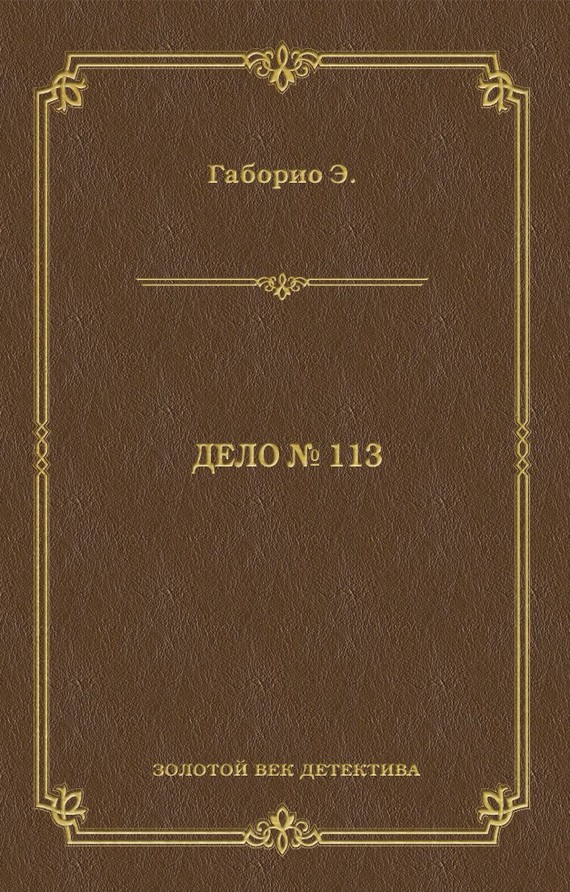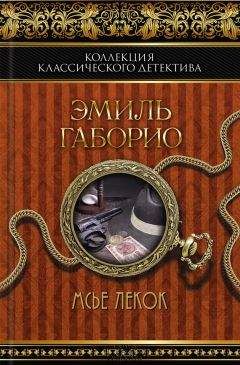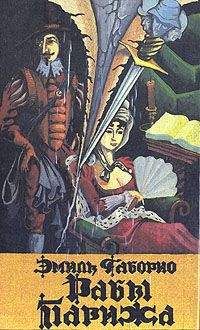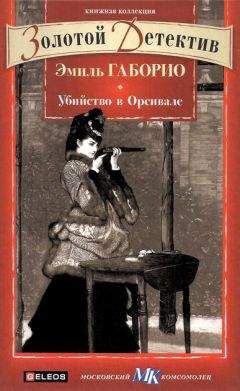продолжал наблюдать.
В отчаянии Мадлена стала умолять; она сложила руки, наклонилась и уже готова была встать на колени.
Рауль отвернулся. Он отвечал ей только односложными словами.
Два или три раза Мадлена направлялась к выходу, но затем возвращалась снова, точно в ожидании милости, не решалась уйти, не получив ее.
В последний раз она, по-видимому, решилась на крайнее средство, потому что Рауль вдруг встал, достав ключ, отпер маленький шкафчик, стоявший у камина, достал оттуда пачку бумаг и подал ей.
«Что это? – подумал Вердюре. – Уж не переписка ли, которая может компрометировать эту барышню?»
Мадлена, взяв пачку, по-видимому, не удовлетворилась ею. Она заговорила вновь и стала на чем-то настаивать, точно требуя чего-то еще. Рауль отказал ей, и она швырнула пачку на стол.
Эти бумаги очень заинтриговали Вердюре. Они были рассыпаны по столу, и он видел их отлично. Они были разных цветов: зеленые, серые, красные.
«Нет, я не обманываюсь, – подумал он, – глаза мне не изменяют. Это расписки из ссудной кассы!»
Мадлена стала рыться в бумагах. Она выбрала из них три, сложила их, спрятала их в карман, а остальные с презрением отшвырнула прочь.
На этот раз она решилась наконец уйти, так как Рауль взял лампу, чтобы ей посветить.
Больше Вердюре не на что было смотреть и он стал осторожно спускаться вниз.
– Расписки ссудной кассы!.. – бормотал он. – Какая странная тайна скрывается во всем этом деле!
Затем он стал быстро убирать лестницу. Рауль, провожая Мадлену, мог сделать несколько шагов по саду и, несмотря на темноту, мог бы ее заметить, если бы она черным пятном оставалась приставленной к стене. Поэтому Проспер и Вердюре положили ее на землю и притаились сами.
В эту самую минуту на крыльце показались Рауль с Мадленой. Он поставил лампу на первую площадку и протянул к ней руку, но молодая девушка с жестом негодования отстранила ее, и это бальзамом пролилось по сердцу Проспера. Однако же такое обращение нисколько не обидело и не удивило Рауля. Очевидно, он привык к нему, так как сделал иронический жест, который означал: «Ну как угодно!»
И он пошел к решетке, сам отпер калитку и затем быстро возвратился домой, а Мадлена села в карету и уехала.
– Ну-с, нам нечего здесь больше делать! – обратился Вердюре к кассиру. – Этот негодяй, ваш Рауль, запер калитку, я сам это видел. Надо удирать тем же путем, каким мы и пришли сюда.
– А лестница-то на что?
– Нет, пусть она остается там, где лежит. Так как нам не скрыть своих следов, то пусть подумают, что это воры…
И они вновь перелезли через стену. Но, не пройдя и ста шагов, они услышали, как вновь отпиралась калитка. Скоро они увидали, как кто-то их обогнал и направился к станции железной дороги.
– Это Рауль… – сказал Вердюре, как только шаги его замолкли. – Наш лакей Жозеф даст нам отчет обо всем, что он расскажет Кламерану об этой сцене. Ах, если бы только на этот раз они говорили по-французски!
Доставивший их извозчик еще находился в трактире, указанном ему Вердюре.
– Нам нельзя ехать поездом, – сказал Просперу Вердюре. – Мы можем столкнуться на станции с Раулем.
Вид обоих седоков удивил извозчика.
– Что это с вами? – воскликнул он, оглядывая их.
Проспер чистосердечно рассказал ему, что они отправились разыскивать дачу своего приятеля, сбились с дороги и оба свалились в темноте в канаву.
– Едем! – раздался повелительный голос Вердюре.
– Пожалуйте… – отвечал извозчик. – Садитесь!
И они поехали.
Но путь обратно показался им необычайно длинным, и всю дорогу они молчали.
На улице Сен-Лазар возвышались два дома двух знаменитых финансовых деятелей, братьев Жандидье. Царственное великолепие их, удивительное сочетание роскоши с комфортом и редкое радушие самих хозяев собирали сюда гостей со всего Парижа.
В субботу же, на другой день после описанной сцены, вся улица Сен-Лазар была запружена экипажами, вытянувшимися в длинную линию.
В десять часов танцевали уже в двух залах.
Был костюмированный бал. Среди костюмов были очень дорогие, попадались костюмы, сделанные с большим вкусом, были и просто оригинальные.
Среди последних выделялся один паяц. Он держал в левой руке древко, на котором в виде флага болтался кусок полотна. На этом полотне было изображено шесть или восемь картин самым лубочным способом, как это делают на балаганах. В правой руке у него была палочка, которой он похлопывал по полотну, точно комедиант, приглашая зрителей.
Паяца окружили со всех сторон, ожидая от него острот, но он упорно молчал и держался у входных дверей.
В половине одиннадцатого он покинул свой пост: в дверях показались господин и госпожа Фовель в сопровождении своей племянницы Мадлены. Группа гостей тотчас же столпилась у дверей. В течение уже десяти дней случай с банкиром с улицы Прованс был предметом всеобщих разговоров. И друзья и враги – все бросились к банкиру, одни – чтобы выразить ему свое сочувствие, а другие – чтобы сказать ему комплимент, похожий на сочувствие.
Принадлежа к людям серьезным, господин Фовель вовсе не был наряжен. Под руку с ним шла его жена, урожденная Валентина Вербери, раскланиваясь по сторонам и приветливо улыбаясь. Ее красота еще была заметна в ней. А теперь, при свете люстры, в очаровательном костюме, – она казалась совсем молодой. Никто не дал бы ей ее сорока восьми лет.
Она выбрала себе туалет эпохи конца царствования Людовика XIV, великолепный и строго выдержанный, весь из затканного бархата, но без единого бриллианта, без единой драгоценности.
Мадлена же оказалась царицей бала. В своем костюме фрейлины, она выступала в душистой атмосфере зала, под блеском массы огней, и красота ее всем настойчиво заявляла о себе. Никогда еще ее волосы не были так черны, никогда еще ее цвет лица не был так изыскан и ее глаза – так прекрасны – блестящи.
Она взяла свою тетку за руку и пошла с нею, а господин Фовель потерялся в толпе, направляясь к зеленым столам, этому убежищу для пожилых людей.
Бал был блестящ до апогея.
Два оркестра, один под управлением самого Штрауса, а другой – его помощника, наполняли залы своими звуками. Толпа двигалась, колебалась как в калейдоскопе, и это было чудесное смешение золота, атласа, бархата и кружев.
Бриллианты сверкали на головах и на груди у дам, щеки их пылали румянцем, глаза горели, и плечи их декольте белели лучше, чем мягкий снег под первыми лучами апрельского солнца.
Забытый всеми, паяц взял свое полотно и удалился в амбразуру окна. Отсюда он не спускал