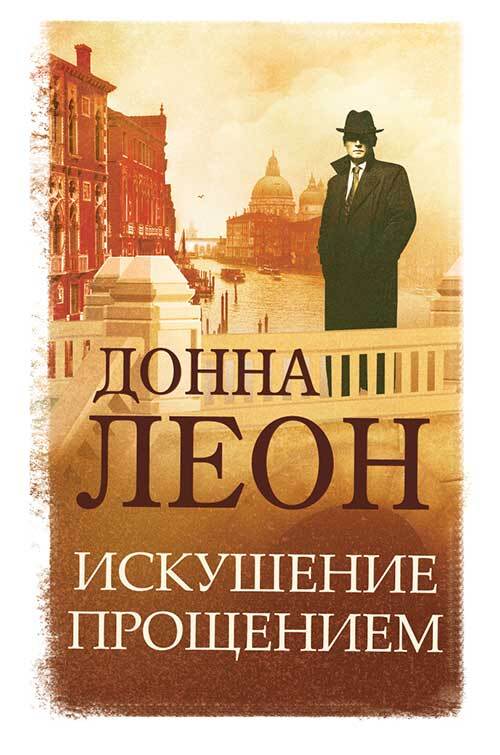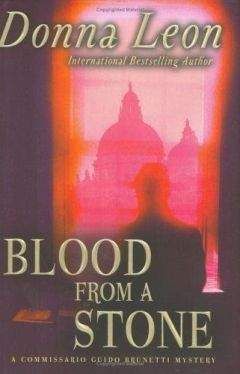– Желаю вам быть мужественной в это трудное время, синьора.
С этими словами Клаудиа повернулась и вышла. Гвидо молча последовал за коллегой.
20
Спускаясь по ступенькам, Брунетти прокручивал в уме прощальную реплику Гриффони. Только южанин или южанка может уместить в стандартном пожелании такое глубокое чувство. А изящество формулировки? Слова Клаудиа были адресованы женщине, у которой случилось горе и которую нужно поддержать, а не несчастной жертве, – в данном случае мужу профессорессы, – который, конечно, нуждался в помощи, пусть даже в добром слове, но не услышит его или не поймет и не получит от этого никакой пользы… Старая как мир дилемма: Гвидо так и не научился доверять южанам, но и не восхищаться их прирожденным величием духа было невозможно.
На улице он ненадолго задумался – состояние, которое тут же считывается любым венецианцем и определяется как «сверка со встроенным GPS-навигатором, имплантированным при рождении». Нечто похожее происходит со стрелкой компаса, пока она не укажет точно на север.
Выбрав маршрут, Брунетти зашагал к кампо Санта-Маргерита, предоставив коллеге подстраиваться под его темп. Они пересекли площадь, спустились к церкви Санта-Мария-деи-Кармини – и вот он, мост! Внимание обоих привлекло здание, в котором два центральных окна на третьем этаже были заложены кирпичом.
– Зачем они это сделали? – спросила Гриффони.
– Думаю, ошибки проектирования. Палаццо стоит у самого канала, приходится выкручиваться.
– Тебя послушать – это обычное дело, – сказала Клаудиа с улыбкой.
– Так и есть.
– Но зачем закладывать окна кирпичом?
– Наверное, строители слишком поздно поняли, что оконные проемы ослабляют конструкцию.
Гриффони согласно хмыкнула и стала подниматься на мост.
Дом им искать не пришлось, как и звонок с пометкой «Гаспарини». Гриффони подождала, пока Брунетти ее догонит, и, когда он встал рядом, позвонила.
Вскоре из динамика послышался женский голос: Chi è? [55]
Брунетти тронул коллегу за плечо и, поймав ее взгляд, указал на нее: женский голос в данном случае будет воспринят благосклоннее, нежели мужской.
– Профессоресса Элиза попросила нас зайти к синьоре Гаспарини. – Гриффони постаралась придать своему голосу теплоту и дружелюбие.
– Жена синьора Туллио?
– Да.
– Вы из больницы?
– Нет, – ответила Гриффони. – Профессоресса попросила нас навестить тетушку синьора Туллио.
– С ним все в порядке? – спросили из динамика.
Клаудиа посмотрела на Брунетти. Тот кивнул.
– Да, – сказала Клаудиа и добавила: – Благодарение Господу!
– Ах, синьора! – отозвалась женщина. – Я ежедневно молюсь о нем!
– Можно нам ненадолго зайти и поговорить с синьорой? – спросила Гриффони.
– Конечно, раз вас прислала профессоресса Элиза.
Секунда, и после короткого звукового сигнала дверь открылась. Полицейские оказались в атриуме – огромном, с высокими потолками и традиционным, мощеным «шахматным» полом в красно-белую клетку. За большими стеклянными дверями виднелся сад, протянувшийся к дальней, высокой кирпичной стене на ширину стандартного городского квартала. Фруктовые деревца, казалось, дремали во влажной прохладе, дожидаясь весны. Двухмаршевая лестница, ведущая на второй этаж, была широкой, с низкими ступеньками, истертыми по центру за много веков эксплуатации. На первой лестничной площадке, друг напротив друга, – двери двух квартир. Так же – на каждом последующем этаже, за исключением верхнего, где дверь была всего одна. Когда полицейские поднялись на пятый этаж, Гриффони посмотрела на нее и спросила:
– Выходит, весь этаж принадлежит синьоре Гаспарини?
– Наверное, – ответил Брунетти, прикидывая в уме площадь квартиры, и позвонил.
Дверь открыла женщина тридцати с лишним лет, белокурая, со светло-голубыми глазами. И отступила, давая визитерам пройти. На ней был белый синтетический свитер и темная юбка длиной до середины икр. Расчесанные на прямой пробор, удивительно гладкие волосы спадали на плечи. У женщины были мягкие восточнославянские черты лица и бледная кожа. Блондинка тревожно улыбалась посетителям.
Брунетти попросил позволения войти и посторонился, пропуская Гриффони вперед.
Прихожая была поразительно длинной, с невысоким потолком, который казался еще ниже из-за темных поперечных балок. Окон было несколько, с видом на сад, но даже это не оживляло помещения; темный пол, казалось, поглощал свет.
– Синьора у себя в комнате, – сказала женщина, ведя полицейских дальше по коридору.
Они прошли мимо двух висевших друг напротив друга гобеленов. На одном Брунетти разглядел темных оленей, которых пронзали копьями охотники с выцветшими лицами, на втором – охоту на диких кабанов. Тут невольно порадуешься скудному освещению… Дальше – портреты: господа на одной стене, дамы – на другой, и все пристально изучают представителей противоположного пола. Реставрация бы им не помешала, как и… чуточку жизнерадостности.
Блондинка остановилась перед первой дверью справа и сказала:
– Синьора здесь. Вы же не будете ее расстраивать, правда? – И более доверительным тоном, словно моля о понимании, сообщила: – Она уже не так здорова, как раньше.
«Это действительно ее огорчает», – отметил Брунетти.
– Конечно, нет, синьорина.
Женщина попыталась улыбнуться и выразила признательность книксеном, куда более глубоким и церемонным, чем того требовала ситуация. После чего открыла дверь и вошла в помещение, освещенное не лучше, чем коридор.
– Синьора! К вам друзья господина Туллио! – наигранно бодрым тоном объявила блондинка.
Она переступила порог и, обернувшись, жестом пригласила гостей войти. Как только они это сделали, синьорина Беата еще раз почтительно присела и удалилась, закрыв за собой дверь.
Миниатюрная дама с огненно-рыжими кудрями, уложенными в прическу, которая выглядела бы уместнее на голове куда более молодой модницы, сидела в низком кресле у окна. Ноги ее покоились на парчовом пуфике. Дневной свет (та малость, какая проникала в комнату) падал на нее справа. На даме был синий, затканный красными драконами шелковый жакет и юбка в серо-зеленую полоску из какой-то блестящей ткани, возможно атласа, длиной до лодыжек. На ногах – домашние шлепанцы на высоком каблуке, такие Брунетти доводилось видеть только в опере и на портретах работы Лонги [56]; спереди по краю они даже были отделаны рюшами. В подобном наряде можно было с равным успехом принимать гостей во время званого ужина и участвовать в рождественской пантомиме.
Неподвижность лица синьоры Гаспарини могла быть следствием неудачной пластики, а могла – одернул себя Брунетти – и отражать полное безразличие ко всему происходящему за пределами этой комнаты. Взор ее был затуманен не только тончайшей пеленой, которая появляется в старости, но и этой едва уловимой неуверенностью в реальности, которую созерцают глаза. Губы были такими же красными, как и волосы, и столь же тонкими.
Единственное, что оживляло картину – Брунетти содрогнулся, но просилось именно это слово, – судорожные, совершенно аритмичные подергивания головы, чаще влево. Гвидо все же попытался вычислить периодичность, но тщетно: три секунды, потом пять, потом одна…
Дама сидела в кресле так, будто это было ее основным занятием. На столике рядом не было ни чашки, ни стакана, ни фруктов, ни шоколада, ни даже книги или журнала. Посмотрев на вошедших, она царственно указала на ряд кресел напротив, как если бы аудиенции были частью ее дневной рутины. Гости присели.
Мебели в комнате хватало – крупной, темной, несуразной. Кресла – все либо чрезмерно пухлые, либо слишком высокие, либо чересчур низкие; некоторые были откровенно уродливыми. Один из платяных шкафов накренился вправо, так что казалось, будто он вот-вот рухнет. Ножки стола явно страдали слоновьей болезнью, зеркало заплесневело от старости. Собрание реликвий семьи, члены которой не отличались хорошим вкусом…
– Вы друзья моего племянника? – спросила дама вместо приветствия.
– Sì, синьора, – сказал Брунетти.
Гриффони кивнула с легкой утвердительной улыбкой. Пожилая дама едва удостоила ее взглядом. Голова синьоры Гаспарини то и дело дергалась влево и обратно. Брунетти, как мог, старался этого не замечать.
– Почему он давно меня не навещал?
Пожилая дама хотела произнести эти слова гневно, но ей удалось изобразить лишь раздражение.
– Он очень занят, синьора. Как