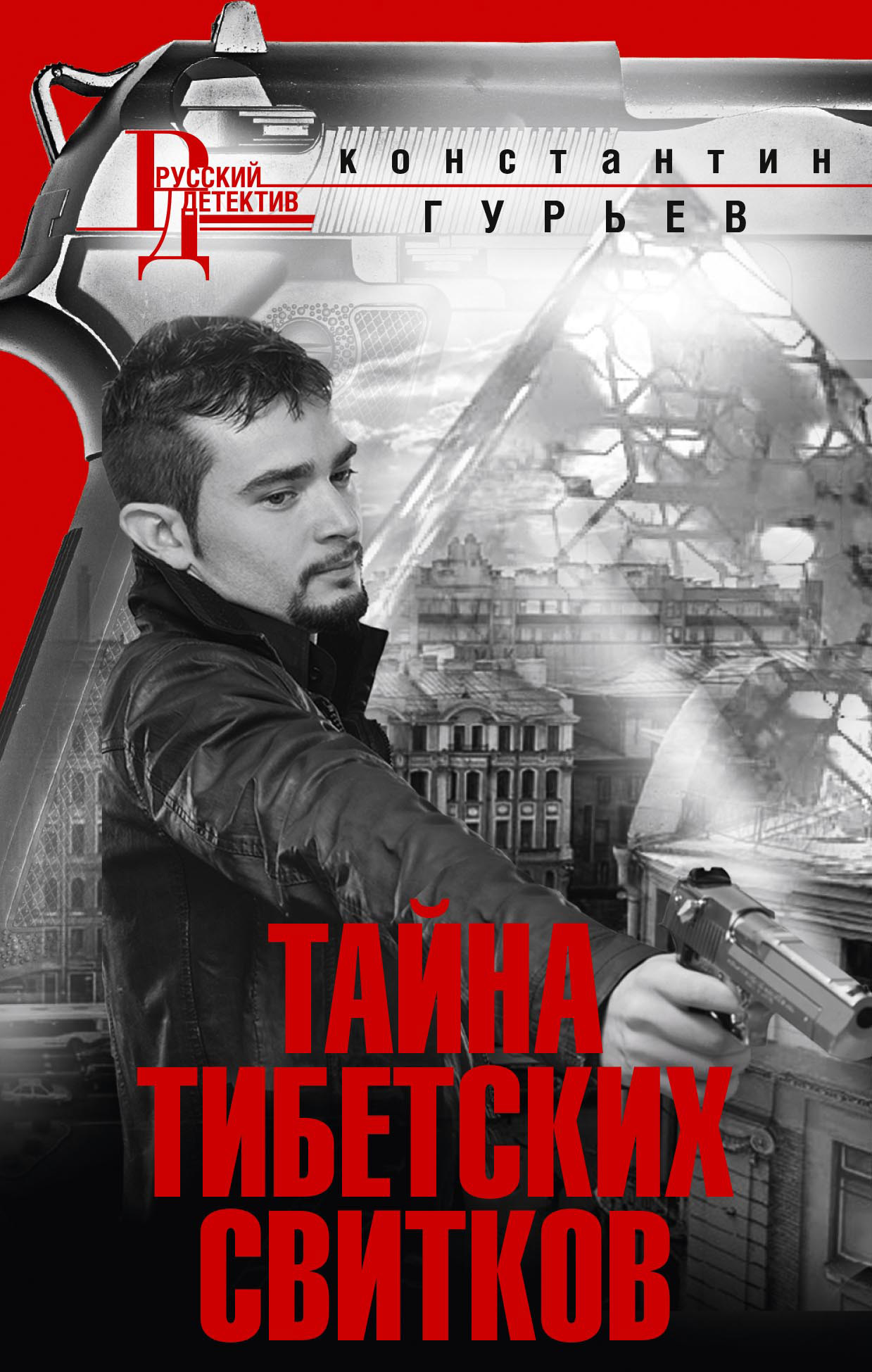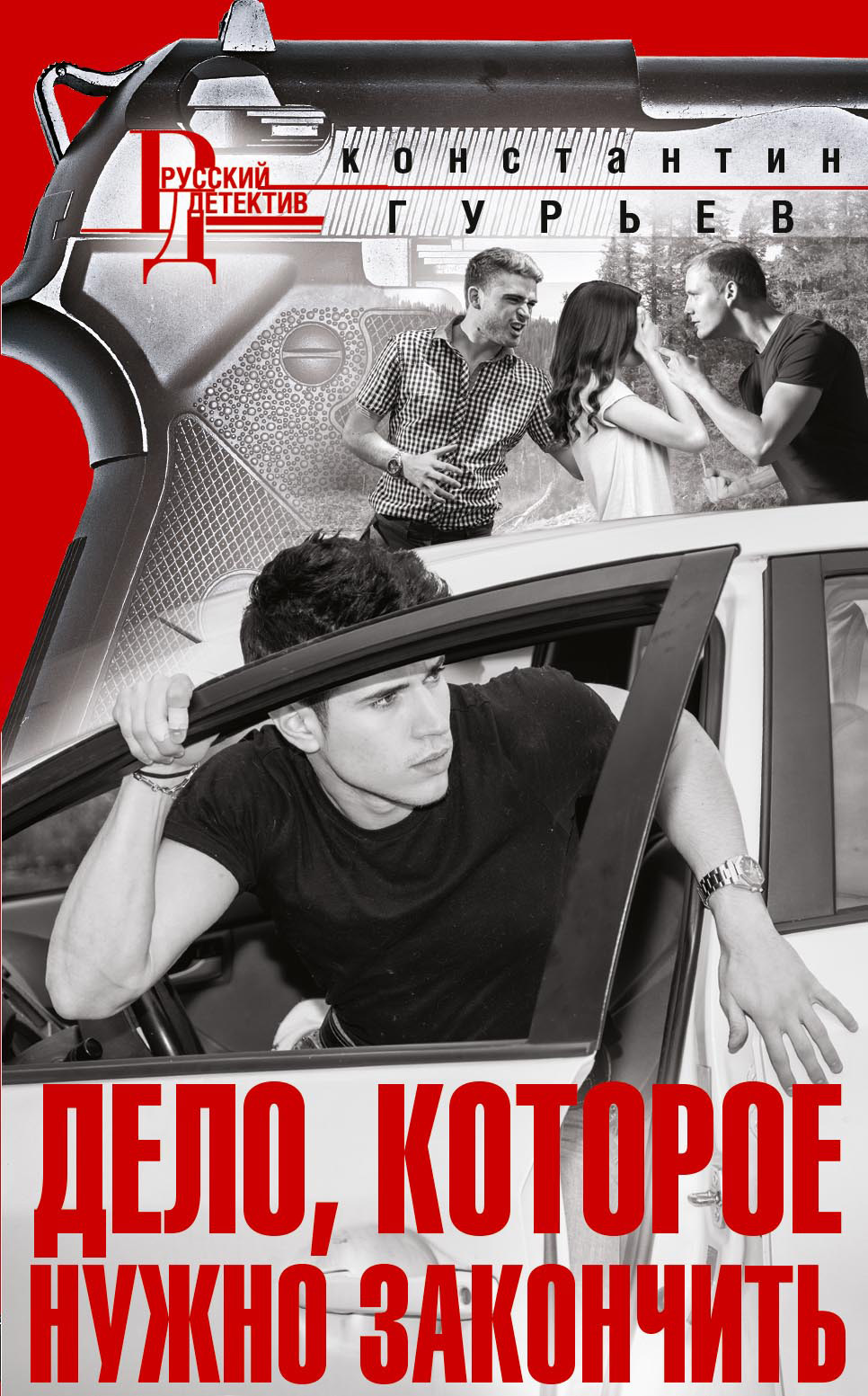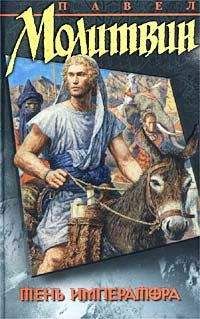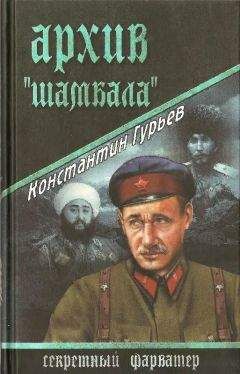душой известного журналиста, и он отправился в магазин. Взял только необходимое, зная, что с голода может проглотить слона. И пачку чая, чтобы отдать соседке. Попросил взаймы еще утром, когда ключи брал.
Соседка обрадовалась не столько чаю, сколько новому человеку, усадила ужинать, пока не остыло. И пока Корсаков ел, говорила и говорила почти без остановки. Игорь уже утопал в вязи слов, когда новый поворот заставил его встрепенуться.
— …То ли это Антошкины парни баловали, то ли чужие, я и не пойму, — сокрушалась бабулька, — правда, ничего не сломали, не сожгли, а мало ли… Вдруг внутри чего напоганили.
— Вы про что сейчас? — поинтересовался Корсаков.
— Да говорю, прошлую ночь шастали тут какие-то парнишки, — вернулась к своему повествованию хозяйка дома. — В двери-то не заходили, это я точно знаю, а вот зачем приходили, не пойму.
— И долго крутились?
— Час, наверное. Как раз темнеть начало. Я с вечера-то легла, вроде и спать сильно хотела… — старушка явно намеревалась перейти к вечному рассказу о бессоннице.
— А много их было? — перебил ее Корсаков.
— Ой, да я ведь и не упомню, — огорчилась Старушка. — Темно было. А ты сейчас-то их не видел?
— Кого? — удивился Игорь.
— Дак парней, — охотно пояснила собеседница, — они только что у тебя возле ворот стояли. — Она выглянула в окно. — Нет уже. Ушли, видать…
— А что, — попробовал углубить тему Корсаков, — часто тут кто-то появлялся, пока Петра не было?
— Да никто не появлялся. Вот, говорю же, вчера, да сегодня шастают.
— Может, рыбаковские? — попробовал проявить свою осведомленность «московский гость».
Бабулька ответила, не задумавшись ни на миг:
— Нет. Антошка — хитрый, если что задумает, сделает так, что никто никогда на него и не подумает. — И неясно было, порицает она Антошку или восхищается им.
Наверное, просто для того, чтобы снять напряжение, Корсаков спросил:
— Вот вы сказали, что чужих сразу заметили бы, так?
Старушка кивнула.
— А в прежние времена таких вот «чужих» тут много появлялось?
— Так это смотря какие времена прежними считать, — разумно заметила хозяйка дома и замолчала. Потом сказала: — Оно, конечно, Москва — центр, но у нас тоже интересные вещи происходят. Если походить, людей порасспросить… Много тут интересного бывало, старые люди, поди, много интересного могли бы рассказать. Да и рассказывали. В старые-то времена, когда я еще девчушкой совсем была, телевизоров-то не было, так вечерами-то собирались то у одних ворот, то у других, семечки лузгали да языками трепали, — усмехнулась старушка. — Дак, а мужики-то все по сарайкам да по стакашкам самогон разливали. Ну, и, понятное дело, лясы точили, сказки всякие рассказывали…
— Про сказки, это в каком смысле? — уточнил Корсаков только для того, чтобы хоть что-то сказать и отогнать сон.
— Ну, не то чтобы там про Бабу-ягу, например, а такое, что и проверить нельзя, а прилюдно-то и возражать не всякий решится.
— Ну, а о чем, например, рассказывали?
— Да про все, про разное. Кто о чем. Через нас вот в Гражданскую-то многие ведь убегали с фронтов. Кто за границу, в эмиграцию, а кто и прятался в деревнях.
— Кто прятался? — насторожился Корсаков.
Старушка оживилась:
— Вот сама не видела, да меня тогда и на свете еще не было, а мама с бабушкой рассказывали, будто в июне сорок первого приходит в город мужик, по виду — вполне сельский житель, одет, как все, и идет прямо в военкомат. Приходит и просится к начальнику, а его не пускают, дескать, занят он. Мужик требует: мол, важное дело, а ему снова отказывают. Ушел мужик, а уже поздно вечером, когда чуть свободнее стало, снова заходит и требует, чтобы допустили. Ну, допустили, и он с порога говорит: мол, требую направить меня в действующую армию! Военком ему: мол, куда ты, дед, пойдешь, в твоем-то возрасте! А тот вдруг и говорит: я, говорит, полковник императорской армии, имею большой опыт участия в военных действиях, и сейчас на фронте принесу много пользы Российской армии. Военком насторожился: мол, как это полковник царской армии? Почему не знали о тебе ничего? Тот отвечает, что скрывался, опасаясь суда и наказания, а сейчас намерен вину свою искупить кровью! Военком не знает, что делать, а мужик этот, ну, то есть царский полковник ему говорит: ты, говорит, меня сейчас под стражу посади и срочно сообщи куда положено! Ну, сажать не стали, а сообщить сообщили. Приезжает какой-то чин из центра, с мужиком этим разговаривает, а потом звонит в тот же самый центр. И мужика этого срочно в армию снаряжают: мол, если правду говоришь, то все грехи твои тебе простят и после войны будешь обычным гражданином без всяких там… ну… наказаний.
— И что, как он воевал? — спросил Корсаков, уже не скрывая заинтересованности.
— Как воевал — не знаю, но дело в другом. Мужик тот спрашивает: мол, правда ли? Тот отвечает, что ему дано такое указание — предложить. Тогда мужик этот говорит: дай мне два дня. Ну, дали ему два дня, а через два дня он вернулся, да с собой еще человек сорок привел! Да все сплошь — бывшие золотопогонники!
— А что же они… — спросил было Корсаков.
— А они, видишь ли, все прятались в отдаленных селениях, занимались кто чем, чтобы на глаза новой власти не попадаться, а как Родина в опасности, все решили, что хватит прятаться, потому что погибать за Родину — дело святое! Им даже разрешили перед уходом на фронт молебен отслужить. Тайком, конечно, никого из наших-то не пускали, да и вообще… Но — разрешили!
— И кто-то может об этом рассказать?
— Так я тебе и рассказываю, — будто обидевшись, сказала старушка. — А потом и тетки у нас появились, видать, из тех же мест, скорее — жены тех самых… Одна у маминой сестры в школе учительшей была, пению их учила, так они с ее слов песни на разных иностранных языках учили, а потом пели на уроках! Да, и много их было, но жили они тут, но недолго…
— Как «недолго»? — удивился Корсаков. — А потом что?
— А потом война закончилась, они и уехали кто куда, письма