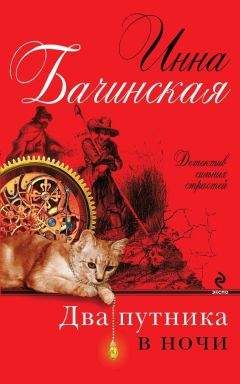Я видел, что моя подруга очень устала. Ее дыхание было частым и тяжелым, а с ее лба ручьями струился обильный пот. Она бессильно опустилась на землю. Я снял с себя куртку и заботливо накинул ей на плечи…
Мой голос предательски задрожал. Приближался самый мучительный момент моего повествования. Я изо всех сил щипал свои руки, вонзал ногти в кожу, чтобы причиняемой себе болью заглушить рвущийся наружу плач. Но это не помогало.
Заметив мою заминку, следователь подбадривающе потрепал меня по плечу и негромко произнес:
— Ну, успокойся, успокойся. Возьми себя в руки. Будь мужчиной.
Я вытер рукавом глаза, и, пересиливая себя, продолжил рассказ:
— Немного отдохнув, Юля встала, отдала мне куртку, взяла шест и направилась к трясине. Я последовал было за ней, но она меня остановила, сказав, что хочет просто проверить глубину. Я снова присел на землю. Юля с помощью шеста исследовала прибрежное дно и сообщила, что оно твердое, хотя и кочковатое. Затем она осторожно сделала несколько шагов вперед. Все было нормально. Она продолжила движение, аккуратно переступая с кочки на кочку. Я беспокойно, с замиранием сердца, наблюдал за ней. У меня вдруг появилось нехорошее предчувствие. Какой-то внутренний голос неустанно твердил мне, что сейчас случится беда. Я крикнул Юле, чтобы она не рисковала и возвращалась обратно. Но она меня не послушала. "Здесь можно пройти, — сказала она. — Трудно, но можно". По тому, как шест уходил под воду, было понятно, что глубина все возрастала, а дно становилось вязким. Продвигаться в таких условиях очень опасно. Одна неосторожность — и все. Я снова попытался уговорить Юлю вернуться назад, и соорудить хотя бы примитивные болотоступы. Но она только махнула рукой. Дойдя до середины болота, Юля остановилась, чтобы отдышаться. Обернувшись, она ободряюще мне подмигнула. Я укоризненно покачал головой, но тоже подмигнул в ответ, хотя в тот момент у меня на душе скребли кошки. И вот тут произошло то, чего я так боялся. На болотной поверхности прочертился какой-то след. Очевидно, это была змея. Юля испуганно вскрикнула и дернулась в сторону. Выронив шест, она потеряла равновесие, поскользнулась, и упала в воду. Я тут же вскочил, намереваясь не медля броситься ей на помощь. Но Юля крикнула, чтобы я оставался на месте, и что она выберется сама. Она стояла по пояс в трясине и старательно пыталась дотянуться до лежавшего невдалеке шеста, но все ее усилия тратились впустую. Я заметил, что она постепенно уходит под воду все глубже и глубже. Сначала я не придал этому серьезного значения, но потом во мне как стрельнуло: да ее же засасывает! Я слишком поздно это сообразил, а Юля слишком поздно поняла, что в одиночку ей не выбраться. Невзирая на ее протесты, я устремился ей на помощь. Но продвигался я очень медленно. Идти по болоту, не имея никакой опоры, да еще со сломанной рукой, было неимоверно тяжело. Чуть оступись — и все. Юлю тем временем засасывало все сильнее и сильнее. Когда над поверхностью осталась лишь ее голова, она впала в панику, и принялась отчаянно барахтаться и кричать. Она умоляла меня идти быстрее. Но я и так двигался максимально быстро, как только мог. Когда я до нее, наконец, добрался, над трясиной виднелось лишь ее искореженное страхом лицо. Ее рот судорожно заглатывал воздух. Это было ужасное зрелище! Я попытался подать ей шест, но не успел. Ее лицо скрылось в тине. Забулькали пузыри. Вскоре они исчезли. Водная поверхность снова стала гладкой. Я понял, что все кончено.
С трудом подавляя в себе всхлипывания, я посмотрел на майора. Он низко опустил голову, нахмурил лоб, и продолжал писать. По его реакции я понял, что мой рассказ его глубоко потряс. Наверное, он понимал, что это значит, и как это тяжело потерять человека, который совсем недавно стал тебе очень близок.
— Это все? — глухо спросил он.
— Все, — ответил я.
— Больше добавить нечего?
— Нечего.
Николай Иванович собрал в кучу все исписанные им листки и протянул мне:
— Прочти и подпиши.
Читать я ничего не стал. Во-первых, это было для меня слишком мучительно, а во-вторых, отнюдь не каллиграфический почерк следователя не позволял надеяться на скорое завершение этого процесса. Поэтому я просто проставил, где было нужно, свои подписи, и отдал листки майору.
— Всех твоих друзей мы уже нашли, — проговорил он, складывая их в папку. — За исключением Патрушевой. Но к этому болоту сегодня же отправим водолазов. Что тебе сказать? Крепись! Будь мужиком! Тяжелая история. Не хотел бы сам пережить такое. Отдыхай, поправляйся. Возможно, я к тебе еще зайду.
Николай Иванович еще раз ободряюще потрепал меня по плечу, крепко пожал мне руку, и вышел из палаты. Я откинулся на подушку и закрыл глаза. На моей душе лежала нестерпимая тяжесть.
"Дима, спаси меня, спаси!", — звенело в моих ушах. И я никак не мог понять, действительно ли я слышу доносившийся невесть откуда голос Юли, или это в моей памяти эхом воскрес ее прежний, полный мольбы и отчаяния, крик.
Дверь палаты снова скрипнула. Я открыл глаза и увидел Виктора Михайловича.
— Ну, орел, ты как, живой?
— Живой, — пробубнил я.
— Все рассказал?
— Все.
— Ну, слава богу! Меня самого уже эта милиция стала утомлять. Все ходит, ходит. Как появится — в палатах шушуканье, разговоры, сплетни. Бабки — они же любопытные. Больше он тебя беспокоить не будет?
Я пожал плечами.
— Как знать?
Врач развернулся, намереваясь выйти, но я его остановил:
— Виктор Михайлович, выпишите меня, пожалуйста.
Он повернул голову и удивленно посмотрел на меня поверх очков.
— Выпишу, — сказал он. — Обязательно выпишу. Ты думаешь, тебя здесь навечно поселили? Отнюдь. У меня и без тебя больных хватает. Реабилитационный период закончится, и сразу же выпишу.
— Нет, я имею в виду прямо сейчас, сию минуту, — взмолился я.
— Чего это тебе так приспичило?
— МСчи моей нет здесь больше находиться. Спать не могу спокойно. Постоянно кошмары снятся. Мне нужно сменить обстановку. Виктор Михайлович, ну, выпишите!
Врач недоуменно выпятил нижнюю губу.
— Э-э-э, друг мой! Я смотрю, нервишки у тебя ни к черту. Мне кажется, ты чего-то боишься. Чего? Тебя же всячески оберегают, никого к тебе не пускают. Лежишь в отдельной палате. Отдыхай себе на здоровье.
— Ничего я не боюсь, — проворчал я, решив не рассказывать ему про ночной визит брата Алана. — Просто на душе тошно.
— Всем тошно, — возразил Виктор Михайлович. — Родителям твоих однокурсников тоже тошно. Еще тошнее, чем тебе. Уж поверь. Сегодня вот утром мать Попова приехала, так ее еле-еле валерианкой отпоили.
— Я видел, — вздохнул я.
— Возьми себя в руки. Пережить это все надо, перебороть. Сходи на улицу, подыши свежим воздухом. Может, легче станет. А то и правда, сидишь здесь в четырех стенах, как в заточении.
— Виктор Михайлович, когда Вы меня выпишите? — прямо спросил я, умоляюще глядя ему в глаза.
Он смущенно кашлянул.
— Ладно, давай послезавтра. Раньше не могу. Уж извини. Я ведь за тебя отвечаю. Потерпишь еще денек?
— Постараюсь, — ответил я. — Спасибо Вам.
— Пока еще не за что.
Врач снова развернулся и вышел из палаты, оставив меня наедине с воспоминаниями…
Сгущались сумерки. Солнце медленно спускалось к горизонту. Мне мучительно хотелось остановить его ход. Сделать так, чтобы дневной свет не угасал, и ночь не наступала. Днем я чувствовал себя спокойнее и увереннее. Темнота же внушала мне обреченность.
Я долго стоял посреди болота и заворожено смотрел на то место, где утонула Юля. Мне трудно описать свои ощущения в тот момент, ибо никаких ощущений у меня не было. Степень моего потрясения оказалась столь велика, что низвела меня до полного поражения мысли. Моя душа словно заледенела. Мои эмоции словно атрофировались. Я был похож на глиняную безжизненную статую, и лишь беззвучно и неподвижно наблюдал за гладью тины, под которой покоилась моя последняя спутница, и моя первая настоящая любовь.
Когда шок от произошедшего стал постепенно ослабевать, я почувствовал, как в моей душе стремительно нарастает боль. Меня обуяло горе. Оно буквально разрывало меня на части. Я со всей отчетливостью осознал, что остался совсем один. Один-одинешенек среди этой дикого, безмолвного, таящего в себе кучу опасностей мира, которому было абсолютно наплевать на все мои страдания. Трудно подобрать слова, чтобы описать весь ужас этого ощущения. Не помня себя, я истошно закричал. Закричал, что было сил, чтобы выплеснуть наружу всю переполнявшую меня горечь. Мой крик походил на агонию насмерть раненого зверя. Но лесное эхо лишь издевательски смеялось надо мной.
Немного придя в себя, я стал думать, что делать дальше. Закончить переход через болото в потемках я не решился, и осторожно вернулся назад. Оказавшись снова на берегу, я тут же принялся собирать ветки для костра. Свалив в кучу две охапки, я разжег огонь и принялся рубить еловые ветки, чтобы соорудить лапник для ночлега, ибо земля была сырой. Как же я намучился! Работать топором левой рукой, и не иметь возможности задействовать правую — лучшего способа, чтобы в полной мере почувствовать свою беспомощность, было не придумать.