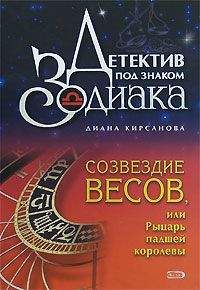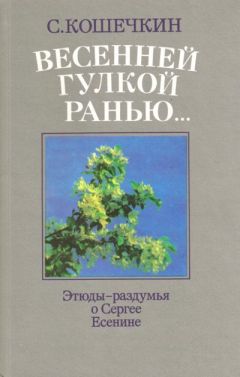Ознакомительная версия.
Из всех доступных ей движений оставалась только возможность повернуть голову: она перекатила ее влево и увидела прямо перед собой мертвый глаз, наполовину закрытый черной короткой прядкой. В ужасе Арька перекинула голову направо: по этой стороне связанный точно таким же манером, что и она сама, лежал и печально смотрел на нее Валька, и черная кровь, медленно застывая, стекала из-под его волос на щеку.
Но он был, слава богу, жив.
Его рот, как, впрочем, и Арькин, был крест-накрест запечатан двумя широкими полосами скотча. Почувствовав, как сознание снова начинает заволакиваться, на этот раз от отчаяния, она стала извиваться совершенно по-змеиному – мало на что надеясь, но и не желая лежать тут, спеленатая веревками, как копченая колбаса.
Вслед за Арькой и Валька решил задорого продать свою жизнь: он начал не только вилять всем телом, но и биться головой о деревянную стену сарая, создавая какой-никакой шум. Правда, настолько слабый, что внимание прохожих он бы привлечь не сумел…
– Зарублю, как собаку! – Стопка корзин распрямилась и оказалась человеческой фигурой. Высокий человек шагнул к ним, и в узкой ленте по-прежнему пробивающегося из щели солнечного света на миг радостно блеснуло лезвие топора.
Валька замер; Арька замерла еще раньше.
– Лежать, молчать, не шевелиться до самой темноты! Тогда умрете легко. Иначе…
Предоставленный выбор показался Арине начисто лишенным оптимизма. Она замычала.
Лезвие тут же оказалось у самого ее лица. От заточенной стали исходил могильный холод:
– Ты, дура! Думаешь, шутки тут с тобой шучу?
Нет, Арина так не думала. И даже «дуру» пропустила мимо ушей без особой обиды; больше всего ей хотелось как-нибудь изловчиться дать понять убийце, что надо бы поговорить, но Арька никак не могла придумать способа донести до него это предложение.
– Му-ма-мум-ма, – сказала она, что должно было означать: «Пожалуйста…» – и подавилась собственными звуками: человек еще больше выпрямился, пружинисто замахнулся – занесенный топор просвистел в сантиметре от нее и с треском вонзился в дощатую стену над самой ее головой:
– Молчать!!!
Арина закрыла глаза; по животу и груди стекали вниз крупные холодные капли пота. Валька тяжело сопел рядом – было слышно, как бьется его сердце. Аринкино же трепыхалось где-то в районе пяток.
– Это из-за тебя все, сука! – с ненавистью прошептал убийца и пнул Арьку в ягодицу тупым носком огромного резинового сапога.
По-прежнему не открывая глаз, она попыталась сосредоточиться на поисках выхода – ведь авторы умных книжек наперебой повторяют, что безвыходных положений не бывает. Интересно, какой выход могли бы предложить эти авторы, если бы лежали связанными на земляном полу и какая-то сволочь замахивалась на них топором?
Арина вновь открыла глаза; Валька, если судить по его напряженному телу, тоже проклинал в данную минуту авторов умных книжек. Похититель и будущий убийца в позе роденовского «Мыслителя» (правда, что-то Арька не могла припомнить, чтобы «Мыслитель» Родена держал в руках топор) сидел напротив. Лица его было не разглядеть. А впрочем, не больно-то и хотелось: в последние минуты своей жизни рассматривать впадинки и родинки на лице убийцы – это чересчур…
Тэк-с. Выхода никак не придумывалось.
Оставалось только одно – молиться. «Господи!!! – завопила Арина в мыслях и даже закатила глаза от нахлынувшего экстаза. – Господи, если ты есть, – яви чудо! Пошли нам ангела-спасителя из своего небесного ОМОНа, я знаю, у тебя есть такой, господи!!! Не дай погибнуть во цвете лет! Пошли нам ангела, господи!!!»
…И ангел явился!
Сначала они услышали его шаги – Арина прислушивалась к ним с крайним удивлением, потому что не ожидала, что небеса так быстро откликнутся на ее просьбу. Конечно, злодей тоже услышал эти шаги: он привстал с места, вслушался и прокрался к двери. Топор из рук он не выпускал.
По ту сторону ангел толкнул дверь и встал на пороге, спокойно оглядывая открывшееся его взору пространство.
За спиной ангела отчетливо виднелось свечение. Впрочем, возможно, что это свечение было простым солнечным светом, который заполонил дверной проем, обтекая фигуру спасителя.
Арина дернула ногой и запрокинулась, чувствуя, что опять почти теряет сознание: ангелом, которого она выпросила у бога, оказалась… Анна!
* * *
Нет, Арине не показалось, это действительно была она!
Спокойная, с такой знакомой грацией в движениях и поступках, Анна подошла к убийце. Он выронил топор; звякнув, тот упал на земляной пол и ударился о какой-то камень. Страшный человек, внезапно и быстро согнувшись, словно его согнули пополам и потом еще пополам, повалился ей в ноги.
– Это ты, ты! Аня! Ты! Анюта, радость моя, Анюта! Прости меня, прости! – бормотал он еле слышно.
А Анна, Анна, не говоря ни слова, продолжала стоять у открытой двери. Она не наклонилась к убийце, не сделала попытки поднять его с колен. Только положила обе своих легких руки на согнутые перед нею плечи.
Свет из приоткрытой двери освещал их, и Арьке показалось, что где-то она уже видела эту картину – кажется, она называлась «Возвращение блудного сына», и написал ее какой-то большой-большой художник…
И тут стены сарая одновременно затрещали так, как будто их разом рубила в щепу добрая сотня лесорубов. Арина зажмурилась и, забыв, что руки ее связаны, хотела было, по старой привычке, прикрыть ладонями уши; впрочем, треск этот слышался недолго. Когда она в очередной раз открыла глаза, никакого сарая уже не было – были только разломанные и беспорядочно сваленные наземь доски, когда-то служившие стенами, валялась там и сям садово-огородническая утварь, а возле Анны и ее брата почетным караулом стояли шестеро отнюдь не божественных, а самых настоящих омоновцев – в круглых пуленепробиваемых шлемах, в высоких зашнурованных «вездеходах», с короткими автоматами, направленными прямо на убийцу.
«Почему я так часто возвращаюсь мыслями именно в те годы? Часто, гораздо чаще, чем мне хотелось бы, я вспоминаю не себя – теперешнего, взрослого, женатого двадцатипятилетнего мужчину, с блестящим будущим, без пяти минут кандидата наук, а маленького мальчика, которого так часто дразнили во дворе и не любили в собственном доме.
Тоненькая спина этого мальчика выражала презрение к окружающим, а лопоухие уши светились нежным розовым цветом, как у поросенка. Конечно, были в жизни этого ребенка и радости, и горе, но сейчас мне кажется, будто главной заботой его жизни была забота о том, как бы не расплакаться.
И всегда рядом с этим мальчиком была сестра. Ее я тоже вспоминаю часто, каждый день, – это моя Аня, Анюта, милая, живая и подвижная девочка с тонкими, как у жеребенка, ногами, умным тонким лицом и мягкими, теплыми волосами, хранящими аромат ее кожи.
И бабулю – милую старушку в огромных вязаных кофтах и тоненькой, собранной в гофрированные складки кожей лица, больше похожей на пергаментную бумагу.
И маму – рослую женщину с упрямо сжатой лентой губ и идеальным, всегда даже несколько вызывающим макияжем. В ней странным образом сочетались вечное чувство вины перед нами, ее детьми – мной, Аней, и бабулей, – и постоянная готовность огрызнуться.
Бабуля проводила с нами все дни. Мама приходила поздно. От нее часто пахло дорогими духами, шоколадом, нередко – вином.
– Что? – отрывисто и резко спрашивала она у бабули, разуваясь у вешалки.
Бабуля качала головой, и маму это уже раздражало. Когда же бабуля подавала первую реплику, мама моментально вскидывала острый подбородок и принимала надменный и, как ни странно, одновременно жалкий вид.
– Двенадцатый час, Натуся, – говорила бабушка.
– И что?! – В мамином голосе отчетливо слышались воинствующие нотки.
– Ты заканчиваешь работу в пять. Мы ждали тебя к шести.
– Я задержалась. У нас на работе было мероприятие, – бросала мама, нервным жестом разматывая шейную косынку. И вдруг, даже не дождавшись бабулиного ответа, срывалась на крик: – Черт меня возьми, да, в конце концов, я никому не обязана отчитываться! Где я была, с кем я была – это никого не касается, никого!!!
– У тебя дети, Натуся, – тихо замечала бабуля.
– Черт меня возьми, я это знаю! Да! В конце концов, я сама их рожала! – кричала (уже кричала!) мама. – Но если у женщины есть дочь, она не перестает от этого быть женщиной! Да! Черт меня возьми, я женщина! И пока есть на свете мужики, которые готовы это засвидетельствовать, я не намереваюсь себя хоронить!
– Это грубо и пошло, Натуся, – говорила бабуся еще тише.
– Что?!
– А вот то, что ты сейчас сказала…
– Плевать!
Подбородок у мамы начинал дрожать, она отворачивалась и замечала меня. Я стоял на пороге своей комнаты. Очень это было больно – смотреть, как ссорятся два самых дорогих для меня человека, но что-то толкало меня каждый раз выходить на порог, как только мамин ключ вползал в дверную скважину.
Ознакомительная версия.