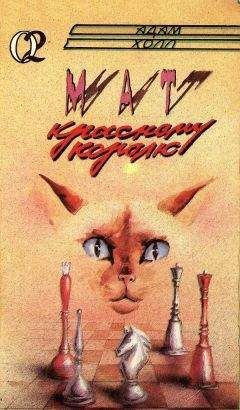— Опоздали вы, сэр. Вон уже сигнал подают, сейчас мы начнем. А вообще, я думаю, причина тут была в человеке. С машиной все в порядке. Похоже, перед крушением ничего такого с ней не произошло. Я сам ее осматривал и отчет подписывал. — Он выжидающе посмотрел на Бишопа. — Вы, наверное, знаете, что он разбился насмерть?
— Да. — Бишоп выпрямился.
Бригадир медленно кивнул.
— Жуть, такая страшная смерть. Но, видно, парень искал ее.
Бишоп в задумчивости перевел на него взгляд.
— Вы хотите сказать, что он сам виноват? — спросил он.
— Угу.
Бишоп кивнул и отошел от рабочих, направившись вверх по склону. Минуту он раздумывал, не на самоубийство ли намекал ему этот человек.
Мисс Горриндж восседала на подножке «роллс-ройса».
— Закончил? — спросила она.
— Там, внизу, да. — Он снова закурил трубку и, облокотившись на машину, посмотрел туда, откуда на холм поднималось шоссе. На расстоянии примерно семидесяти пяти ярдов от него ответвлялась дорога поменьше и, загибаясь, исчезала среди деревьев.
Он пошел вниз по холму к развилке, задержался там на несколько минут. У боковой дороги стоял указатель поворота на Ист-Нолл. Глядя с этого места вверх на холм, Бишоп видел свою машину и мисс Горриндж, терпеливо ожидавшую его.
Он отправился обратно к пролому в заграждении.
— Надо было устроить пикник, — проговорил он. — Такое солнце, птицы поют.
— У тебя и так был достаточно обильный обед.
Бишоп снова рассеянно поглядел на развилку дорог.
— Да я ведь не о еде говорю. Это совсем иначе — на свежем воздухе, под открытым небом, вот и все.
— Ага, значит ты пребываешь в романтическом настроении.
Он только сейчас смог разобрать надпись на небольшом дорожном указателе — «Ист-Нолл».
— М-м?
— У тебя настроение. Ро-ман-ти-чес-кое.
— Я просто имел в виду булочки «броше» и сыр «бель-физе». И еще бутылку красного сухого вина.
Она терпеливо объяснила:
— Это тебе не «Харродс»,[5] тут не дают булочки «броше» и сыр. Мы могли бы заехать в какой-нибудь ресторанчик в Брикстоне. Взять рыбу с картофелем во фритюре и съесть прямо на улице.
Бишоп совершенно серьезно покачал головой:
— Нет, это совсем не то, Горри.
Он медленно обошел вокруг машины и забрался внутрь. Мисс Горриндж спросила его через открытое окно:
— Мы едем, или ты сочиняешь стихи?
Прошла целая минута, прежде чем она наконец услышала:
— М-м?
— О, Хьюго, ради бога! — Она открыла другую дверцу и уселась рядом с ним. — Если ты хочешь жить, не включай задний ход, когда дашь газ. Прямо за нами поставили разбитый автомобиль.
— О-о. — Он уставился в зеркало. — Им нужно заканчивать свою работу. Не будем мешать.
Он включил двигатель.
— Ты что-нибудь узнал? — спросила мисс Горриндж.
— Немного.
Серый лимузин развернулся на дороге так же, как недавно разворачивалась другая машина — «диланж». Проехав примерно милю, Бишоп вдруг остановился и ни слова не говоря повернул назад.
— Надоело ехать вперед? — спросила мисс Горриндж.
Он вел машину обратно на Нолл-Хилл. Сквозь тихий равномерный шум мотора спокойно прозвучал его голос:
— Ты бывала когда-нибудь в Ист-Нолл?
— Кажется, нет. Это туда мы сейчас направляемся?
— Да.
Лимузин добрался до холма, шелестя проехал среди деревьев, миновал дыру в ограждении, возле которой рабочие возились с разбитой машиной, и через некоторое время тихо свернул вправо на боковую дорогу. Мисс Горриндж увидела указатель.
— Так значит ты нашел путь, — сказала она.
Он задумчиво глядел в ветровое стекло.
— Думаю, только еще начинаю нащупывать.
Муха билась в оконное стекло; при каждом ударе ее тонкое приглушенное гудение смолкало. Этот звук напоминал работу электробритвы с плохими контактами. Верхняя половина окна была открыта. Огромный каштан бросал тень на здание, но с юго-запада в окно косо падали солнечные лучи. Они играли на полировке столов, на лысеющих головах, трех звездочках на левом плече полицейского хирурга, на часах присяжного заседателя. Над камином висели часы с белым циферблатом; стрелки показывали десять минут двенадцатого.
— Итак, я предоставлю возможность доктору Гиффорду первым дать показания, поскольку ему нужно как можно скорее вернуться в больницу.
Коронер[6] взглянул на жюри.[7] Никто не возражал. У заседателей были загорелые лица. Трое из них половину лета работали на полях; кожа их потемнела на солнце. Двое других были владельцами лавок; на их бледных физиономиях отражалась тревога о том, как идет без них торговля. Еще один человек в очках все время не отрываясь смотрел на коронера; два круглых пятна, отражавшихся от стекол очков, прилипли к стене, словно пара призрачных яблок.
— Доктор Гиффорд, вы делали первое полное обследование покойного?
— Да, сэр.
— Пожалуйста, расскажите нам, что вы установили. Какова причина его смерти?
Напряженное внимание появилось на лицах присяжных. Они приготовились к медицинскому священнодействию, потоку непонятных латинских слов.
— Перелом основания черепа.
Жюри было разочаровано, напряжение спало.
— А причина перелома, доктор?
— Удар головой о ветровое стекло. След его остался на черепе.
— Благодарю вас. — Коронер смотрел на жюри. Жюри смотрело на коронера. — Это все, что нам требовалось знать, доктор.
— Хорошо, сэр.
Муха на оконном стекле зажужжала сильнее. Громко прозвучали шаги врача, когда он покинул зал заседаний. Бишоп рассматривал худого мужчину, сидевшего в самом конце на местах для публики. Загорелый, в костюме из отличного габардина американского пошива, он был красив на какой-то небрежный, довольно агрессивный манер. Минут пять, пока Бишоп наблюдал за ним, этот человек, скорее всего американец, не сводил глаз с Мелоди Карр.
Мелоди была в черном, лицо бледное, черная кружевная вуаль закрывала его до половины — слишком длинно для шика и слишком коротко для траура. Но выглядела она печальной — хрупкой, сдержанной и трагически-печальной. Бишоп вспомнил, какой видел ее в «Ромеро». С обнаженными плечами, тронутыми загаром, в переливчато-сиреневой оболочке платья — тогда она казалась чудом. Сегодня, через неделю после того вечера, она выглядела одинокой и несчастной.
«В глубине души вы несчастны. Правда?»
«Нет. В душе я счастлива. Душа моя поет».
Он старался уверить себя, что там, в ночном клубе, Мелоди скрывала свое горе. Но она говорила о Брейне так холодно, так безразлично, будто ненавидела его. За небрежными фразами, за мрачным юмором Бишоп ощущал постоянную скрытую экзальтацию. И ему не составило труда поверить, что она говорит правду. Душа Мелоди и впрямь пела от счастья.
Но теперь это бледное лицо, бесстрастное как бы из-за необходимости скрывать горе, являло полную противоположность прежнему. Это выражение казалось таким же искренним, как все другие, которые он видел в «Ромеро», когда она медленно улыбнулась…
«Я придумала для него эпитафию».
Бишоп решил, что правдой является одно из трех. В ночном клубе она разыграла великолепную сцену. Или разыгрывала ее здесь, в суде. Или никакой игры вообще не было: она радовалась смерти Брейна на следующий вечер после случившегося, но теперь, через шесть дней, поняла, что человек, которого она знала, разбился насмерть, и ей стало страшно от этой мысли.
— …как известно, представляет опасность для автомобилиста, даже в обычных условиях.
Бишоп перевел взгляд на коронера и стал слушать то, что он говорил членам жюри.
— С начала этого года на Нолл-Хилл произошло два серьезных несчастных случая, причем среди бела дня. Вы уже выслушали сообщение об обстоятельствах, при которых произошла смерть, в том аспекте, который касается состояния дороги. Но у нас есть и прямой свидетель аварии.
Коронер повернулся к сержанту. Тот вызвал Хьюго Риптона Бишопа.
Бишоп подошел к месту дачи свидетельских показаний и принес клятву.
— Расскажите нам, пожалуйста, что вы видели в ту ночь.
Когда Бишоп начал говорить, мисс Горриндж увидела, что муха, наконец, нашла открытую верхнюю половину окна и улетела. Гудение растворилось в воздухе, словно замирающий звук порванной виолончельной струны.
Мисс Горриндж посмотрела на женщину со светло-пепельными волосами, которая сидела в другом конце зала, слева от нее. Она была в трауре, и горе ее казалось столь же глубоким, как и горе Мелоди Карр. Уже несколько минут мисс Горриндж занималась тем, что старалась определить разницу в выражении этих двух лиц. На первый взгляд, обе горевали, обе оплакивали смерть. Наконец, мисс Горриндж решила, что печаль по-разному отражается в их глазах. Ни одна из женщин не плакала, но в глазах блондинки стояла тихая боль, чего не было в глазах Мелоди. Может быть, для нее не хватало места. Хьюго на вопрос, что выражали глаза Мелоди в ночь несчастья, ответил: «Секс». И он считал, что ни для чего иного в них не оставалось места.