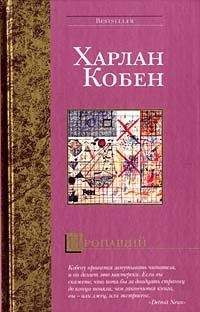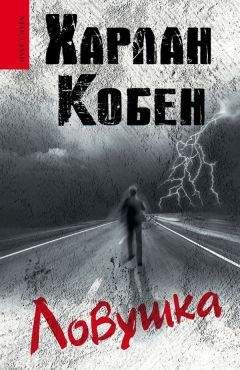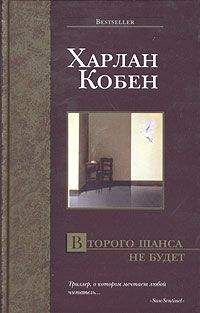произносит Ванесса Хоган. – Никого из них не осталось.
Для нее все кончено. Но не для меня.
– Теперь мой вопрос, – говорю я, вставая со стула. – Если Билли и Эди не бросали «коктейли», они сказали, кто бросал?
– Да.
– Кто?
– Одну бутылку бросил Рай Стросс.
– А вторую?
– Вы видели снимки с места происшествия, – говорит она. – Они нечеткие, но там видно, что участников по-прежнему шестеро. Рай Стросс нашел кого-то взамен Арло Шугармена. Этот парень и бросил вторую бутылку.
– Как его звали?
– До того проклятого вечера Билли и Эди о нем вообще не знали, – говорит Ванесса. – Но все называли его Ричем. – Она выпрямляется. – Может, знаете, кто он такой?
«Рич», – мысленно произношу я. Это не что иное, как сокращенный вариант имени Олдрич.
– Нет, – отвечаю я Ванессе. – Понятия не имею.
Добираясь вертолетом до нашего родового гнезда в Локвуде, я практически не любуюсь видами. Людям свойственно приспосабливаться, и у этого свойства есть одна особенность: когда что-то становится привычным, мы перестаем удивляться и восхищаться. Мы принимаем повседневную жизнь как нечто само собой разумеющееся. Я не считаю эту особенность отрицательной. Нам все уши прожужжали, предлагая сполна проживать каждое мгновение. Это нереальная цель, ведущая не столько к удовлетворению, сколько к дополнительным стрессам. Секрет наполненности кроется не в волнующих приключениях и не в жизни на всю катушку – такой ритм не выдержать никому, – а в приятии и даже наслаждении тихой, привычной повседневностью.
Отца я застаю на тренировочной площадке. Останавливаюсь в двадцати ярдах и наблюдаю за ним. Его удары напоминают движения безупречного метронома. Игроки в гольф со мной не согласятся, но чтобы достичь успехов в этой игре, нужно слегка находиться в обсессивно-компульсивном навязчивом состоянии. Кто еще сможет часами заниматься паттингом и отрабатывать удары? Кто еще способен ухлопать три часа, стоя в песчаной зоне и добиваясь идеальной закрученности мяча и его полета по идеальной траектории?
– Привет, Вин, – здоровается со мной отец.
– Привет, папа.
Его внимание и сейчас сосредоточено на ударе по мячу. Он подчиняется порядку, который сам себе установил. Порядок соблюдается неукоснительно, всегда, независимо от числа произведенных ударов. У него тот же принцип, который я применяю в боевых искусствах: упражняться так, словно ты играешь на поле.
– Поделись своими мыслями, – просит он.
– Я думал вот о чем: чтобы достичь мастерства в гольфе, нужно быть немного ОКР.
– Будь добр, поясни.
Я вкратце объясняю особенности обсессивно-компульсивного расстройства.
Он терпеливо слушает, а когда я заканчиваю, говорит:
– По-моему, это звучит как отговорка, чтобы не упражняться.
– Может, и так.
– Ты очень хороший игрок, – говорит отец. – Но тебе вечно недостает азарта.
Это правда.
– Возьмем Майрона, – продолжает отец. – В обычной жизни он приветливый, милый человек. А на баскетбольной площадке? Он буквально теряет рассудок. Им движет одно неистовое желание: победить. Такому духу соперничества невозможно научиться. К тому же это не всегда здоровое состояние. – Отец выпрямляется и поворачивается ко мне. – Опять что-то случилось?
– Дядя Олдрич.
– Так его уже более двадцати лет нет на этом свете, – вздыхает отец.
– Ты знал о его проблемах?
– Проблемах, – повторяет он и качает головой. – Твои дедушка и бабушка предпочитали слово «пристрастия».
– Когда ты о них узнал?
– Да вроде бы я всегда знал. Он еще в школе выкидывал коленца. Класса с седьмого, если не с шестого.
– Например?
– Вин, а какая тебе разница?
– И все-таки поясни.
Он вздыхает:
– Подглядывание за сверстницами. Агрессивное поведение по отношению к ним. Не забывай, это были шестидесятые годы. О таких штучках, как изнасилование на свидании, тогда вообще не знали.
– И потому ваши родители переводили его из школы в школу. Или платили за то, чтобы замять дело. В старших классах он дважды менял школу. Затем поступил в Хаверфорд, но вскоре семья перевела его в Нью-Йоркский университет.
– Если ты все это знаешь, зачем тогда спрашиваешь?
– В Нью-Йорке с ним что-то произошло. Что именно?
– Не знаю. Родители мне не рассказывали. Полагаю, очередная история с очередной девицей. Его отправили в Бразилию.
– На сей раз причина была не в девице, – качаю я головой.
– Неужели?
– Олдрич был одним из «Шестерки с Джейн-стрит».
Мне хотелось понять, знает ли отец об этом. По его лицу вижу, что нет.
– Тем вечером дядя Олдрич пошел с ними и бросил «коктейль Молотова». Через несколько дней родители отправили его в Бразилию. Спрятали на всякий случай. Они же учредили офшорную компанию, чтобы оплачивать молчание Рая Стросса.
– Вин, к чему ты клонишь?
– К тому, что их усилия не остановили Олдрича. Люди, подобные ему, не исправляются.
Отец закрыл глаза, словно ему стало больно.
– Потому-то я и порвал с Олдричем, – говорит он. – Обрубил все концы и больше никогда с ним не общался.
В отцовском голосе улавливается гнев. Гнев и глубокая печаль.
– Олдрич был моим младшим братом. Я любил его. Но после происшествия с Эшли Райт я понял: он никогда не изменится. Трудно гадать. Может, если бы наши родители не подстилали ему везде соломки, если бы заставили отвечать за свои выходки или бы настояли на помощи психолога… все пошло бы иначе. Но было уже слишком поздно. Дед к тому времени умер. Решение пришлось принимать мне. Я выбрал то, что казалось мне наилучшим.
– Разорвал все связи.
Отец кивает:
– Я не знал, что еще можно сделать.
Я тоже киваю и подхожу ближе. Мой отец – человек простой. Он выбрал жизнь в своем социальном слое, безопасную, защищенную. Он выбрал пассивную жизненную позицию. Помогло ли это ему? Не знаю. Я его сын, но не его точная копия. Он делал то, что считал наилучшим, и я люблю его за это.
– Что? – спрашивает отец. – Еще что-то?
Я качаю головой, не решаюсь заговорить.
– Так все-таки что? – допытывается он.
– Ничего, – заверяю его я.
Отец всматривается в мое лицо. Оно непроницаемо.
Я не хочу разбивать ему сердце.
Постояв, он указывает на стойку слева от него:
– Выбирай клюшку.
Он выкладывает мячи для нашей любимой игры на тренировочной площадке.
Я хочу остаться с ним. Остаться и до захода солнца отрабатывать ближние удары, как когда-то в детстве.
– Сейчас не могу, – говорю я.
– Ладно. – Отец смотрит на мяч, словно пытаясь прочесть логотип. – Может, попозже?
– Возможно.
Я хочу рассказать ему правду, но никогда этого не сделаю. Правда нанесла бы ему незаживающую душевную рану. Ему было бы не выкарабкаться. Я молча жду, пока внимание отца не переместится на белый мячик среди зеленой травы. Его взгляд прикован к мячу, и только к мячу. Я