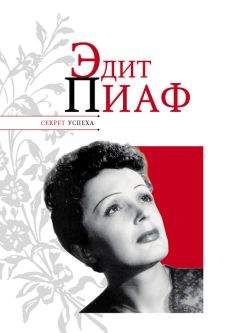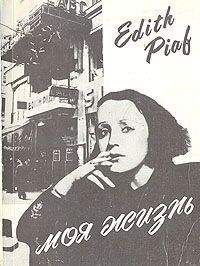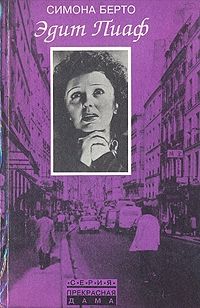— Десять лет назад, в аэропорту, — неожиданно севшим голосом произносит Габриель. — Вы дали мне автограф.
— «io gia di qua, —мурлычет Умберто себе под нос. — io gia di qua». Надеюсь, ты перевел это чудное итальянское словосочетание.
— Нет, — припертый к стенке Габриель вынужден сказать правду, не врать же великому Умберто.
Это — недостойно и мелко.
— А ведь у тебя было десять лет, дорогуша. Целых десять лет.
— Я… Я хотел, чтобы эти слова остались тайной.
— Ты это только что придумал? — Умберто ведет себя в магазинчике по-хозяйски, ходит вдоль полок, изредка пощипывая корешки книг. — Но все равно, молодец.
— Я не придумал это только что… Все так и есть. Так и было.
— Не слишком-то ты преуспел за десять лет, как я посмотрю. А я вот много путешествовал. Совсем недавно вернулся из Англии. Скверная странишка, доложу я тебе. Мало, очень мало солнца, сплошная сырость, сплошной туман. Бывал в Англии?
Врать великому Умберто — недостойно и мелко.
— Нет, — выдавливает из себя Габриель.
— А в Марокко? Ты бывал в Марокко? В Касабланке, в Мекнесе?
— Нет.
— А в Ксар-эль-Кебире? Там прекрасное ковровое производство.
— Нет. В… Ксар-эль-Кебире я тоже не бывал.
— Ну, наверное, ты заглядывал в Германию? В Португалию или, может быть, в Тунис?
— Никуда я не заглядывал.
— Так и просидел здесь сиднем все десять лет?
— Я не мог оставить магазин, он требует моего постоянного присутствия.
— И при этом почти всегда закрыт. Как же тебе удается сводить концы с концами, дорогуша?
— Как-то удается.
— Или все дело в доброй фее? Она могла бы растаять, но не захотела. Легких путей она не ищет, ведь так? Вот и волочет кое-кого по жизни, вливает средства, как в бездонную бочку.
— Это несправедливо. Все эти обвинения, я имею в виду.
— Разве я кого-то обвиняю? Упаси меня бог! Просто пытаюсь понять, чем ты занимался десять лет.
Несчастная Габриелева голова идет кругом, она того и гляди взорвется. А Умберто не обращает никакого внимания на муки Габриеля. Все так же перемещается по магазинчику и не просто ведет себя по-хозяйски: такое ощущение, что он бывал здесь, и неоднократно. Чему тут удивляться, Умберто — великий писатель, а для писателей нет ничего тайного, ничего запретного, они везде чувствуют себя как дома — в чужих пространствах, в чужих мозгах.
— Ты, наверное, посвятил целое десятилетие девушкам, — высказывает предположение Умберто. — Красивым девушкам. Необычным девушкам. Экзотическим девушкам. А иногда — просто забавным.
— Да. Необычные и экзотические девушки меня особенно привлекали. Но и с забавными было неплохо.
— Еще бы! А вот скажи мне, дорогуша, по какому ведомству проходит сопливая террористка, готовая взорвать весь мир только потому, что у кого-то одна пара трусов, а у кого-то— целых три сотни? Она необычная? Она забавная?
— Знакомых террористок у меня не было. — Теперь Габриель вовсе не уверен в этом.
— Неважно. Просто скажи.
— Наверное, ее можно назвать необычной.
— А какая-нибудь восточная дамочка или латиноамериканка, они экзотические, да?
— Да.
— И красивые?
— Возможно.
— Встречаться с ними одно удовольствие, вот только они всегда хотят от тебя больше, чем ты можешь дать. Издержки темперамента, так я это называю.
— Любая девушка хочет от тебя больше, чем ты можешь дать. Вне зависимости от темперамента.
— Верно, дорогуша. Ты умнее, чем я думал, и в состоянии делать логические выводы. Но чтобы научиться столь немудреной логике, хватило бы недели. Или одной мало-мальски продолжительной связи, дней этак на пятнадцать. А чем ты занимался все остальное время?
— Десять лет?
— Десять и ни годом меньше.
Глухой и вместе с тем чрезвычайно насыщенный обертонами голос Умберто действует на Габриеля гипнотически. Вопросы, которые задает Умберто, больше не кажутся ему неуместными, провокационными и раздражающими: великий писатель имеет право на все, на любую глупость, на любое вмешательство в любую жизнь, пусть и не всегда санкционированное; на любое преступление.
Преступление.
При чем здесь преступление?
Он, Габриель Бастидас де Фабер, сочинил книгу о преступлении. Он потратил на нее уйму лет (последние десять — так точно) и совсем скоро должен быть вознагражден за труды. Конечно, то, что вышло из-под пера Габриеля не обладает мощным интеллектуальным зарядом, который так свойственен Умберто, но и титул «нового короля триллеров» что-нибудь да значит.
— Ого! Да у тебя здесь сигары! Чертова пропасть сигар! Не возражаешь, если я покурю?
— Конечно. — Габриель не в силах ни в чем отказать Умберто.
— Так-так-так. — Непревзойденный автор «Маятника Фуко» роется в хьюмидорах и коробках с сигарами самым бесцеремонным образом. — Просто глаза разбегаются! А ты бы что порекомендовал мне?
— Покрепче или послабее?
— Поинтереснее. Поэкзотичнее. Позабавнее.
— Как это — «позабавнее»?
— Упс-упс, — Умберто пропускает реплику Габриеля мимо ушей. — «Cohiba»…
— Это любимые сигары Фиделя Кастро. Их вертят специально для него, под заказ.
— Ну и пес с ней, с «Cohiba». Не будем отнимать у Фиделя то, что принадлежит ему по праву, пожалеем команданте. Вот еще «Боливар»… Как, рекомендуешь?
— «Боливар» — слишком крепкие сигары, не всякий курильщик с ними справится.
— А я слыхал, «Боливаром» балуются даже некоторые девушки. Но лично я не собираюсь пакостить ими горло, оно мне еще пригодится, верно?
— Да…
— О! вот эти точно подойдут. «Dalias»… Не тот ли это «Dalias», который в просторечии называют «8–9–8»?
— Тот. — Голос Габриеля так слаб, что едва долетает до Умберто. А может, и вовсе не долетает.
Но, кажется Умберто не особенно расстроен, ему не нужны ничьи подтверждения, он и так все знает. Абсолютно все. Больше, чем Фэл, больше, чем «Nouveau petit LAROUSSE illustré» 1936 года и позднейшие его модификации, что уж говорить о щенке-Габриеле?
О птенце-переростке Габриеле.
О мальчике-птице.
Умберто вынимает из кармана плаща спички, чиркает одной и подносит к сигаре. На стеклах его очков тут же начинают плясать ярко-красные блики.
— Говорят, «8–9–8» курят мечтатели. Это так? — Умберто делает первую неглубокую затяжку, все по правилам.
— Так.
— Люди немножко сентиментальные, но твердые, когда нужно. Они требовательны в дружбе и великодушны в любви, они любят животных…
— Птиц, — невольно подсказывает Габриель.
— Птиц, точно. А еще кошек. Но с кошками вечно случаются неприятности.
Умберто сидит на прилавке, как какой-нибудь подросток, перекатывает сигару во рту и болтает ногами. Великие писатели бесстрашны, они ни на кого не оглядываются, они могут позволить себе быть эксцентричными и нелепыми, они могут позволить себе быть пузанами и жирдяями.
Но Умберто точно не жирдяй.
И почему это он вспомнил о кошках?
— Последние десять лет я писал книгу. — Вот и Габриель исполнился бесстрашия.
— Да что ты говоришь! Это резко меняет дело.
— Ее вот-вот должны опубликовать. И она не останется незамеченной, уж поверьте.
— Охотно верю. И о чем же твоя книга, дорогуша?
— О темных сторонах души.
— Отличный выбор, поздравляю. Если что и достойно освещения, так это темные стороны души.
— Мне тоже так кажется. Конечно, суперинтеллектуальной мою книгу не назовешь, здесь пальма первенства принадлежит вам…
— Мне? Вот так новость! — от души веселится Умберто. — За какие такие заслуги ты произвел меня в суперинтеллектуалы?
— За «Имя розы». За «Баудолино». За «Маятник Фуко». Я считаю вас эталоном стиля, Умберто.
— Умберто… Так-так… — Лицо Умберто на секунду скрывается за клубами дыма. — О каком это Умберто ты говоришь?
«Умберто, смиренный пресвитер»
«УМБЕРТО, МАГИСТР»
«Умберто, сваривший вкрутую человеческий глаз»
— О вас. Я говорю о вас. О знаменитом писателе Умберто Эко. Который дал мне автограф в аэропорту. Десять лет назад.
— Я помню, «io gia di qua». Только тут вкралась некоторая неточность, дорогуша. Совсем небольшая. Крохотулька, а все же неприятно. Я не Умберто Эко. Ты ошибся. Вот так.
По сигаре Умберто ползет жучок. Lasioderma serriсоrnе, Габриель видел его в далеком детстве, но хорошо запомнил, как он выглядит. Жучок не одинок, все пространство прилавка и матерчатая сумка Умберто кишат его товарищами, несколько десятков сидят на плечах Умберто, еще десяток копошится в полах плаща. Плащ Умберто замызган грязью и покрыт пятнами, ботинки давно не чищены, когда-то щегольское кашне засалилось до невозможности, борода всклокочена, одна из очковых дужек перемотана черной ниткой —