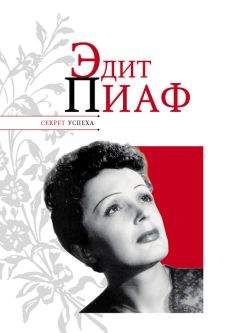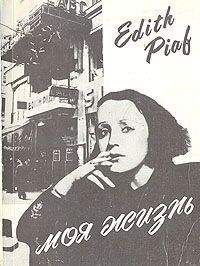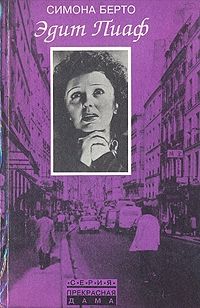и как только Габриель мог подумать, что этот бродяга и знаменитый писатель Умберто Эко — одно лицо?
— Ты расстроен, дорогуша? Вижу, расстроен. Не переживай, не так уж он хорош, твой Умберто. Он что, принес тебе сумасшедшую прибыль? Сколько экземпляров его книг ты продал за последний год?
Ни одного.
Габриель никогда бы не признался в этом бродяге, но молчит он совсем подругой причине: язык его прилип к небу от ужаса, губы свело, а глаза вот-вот выскочат из орбит. Осененное дымом лицо бродяги кажется ему смутно знакомым. Если стряхнуть с него пару десятков лет, некоторую одутловатость и побрить… Если проделать все это…
Нет.
Ничего такого Габриель делать не будет. Ничего.
— Если вдуматься, дорогуша, то я гораздо ближе тебе, чем какой-то там макаронник. Он далеко, а я… «io gia di qua». Хочешь узнать, что это означает?
— Нет.
— Напрасно, ох, напрасно… Если тайну время от времени не выпускать пастись на травке, а потом не сцеживать молоко из ее вымени… Все может закончиться очень плохо, поверь.
Все и так закончилось очень плохо. Или вот-вот закончится. Стоит только Габриелю напрячь воображение и смести с лица бродяги пару десятков лет.
— «io gia di qua». Так ты хочешь знать или нет?
— Нет… да… нет.
— Определись.
— Нет. Да. Нет.
— Определись.
Одно «да» переложено двумя «нет» по сигарному принципу «8–9–8», проще отбросить крайнее, чтобы не нарушать симметрии.
— ДА.
— Отлично. Тогда, с твоего позволения, я повторю один из последних своих пассажей. Страсть как люблю словесные построения. Такие совершенные, что и иголку между ними не всунешь. Ты, дорогуша, должен это знать.
Должен… знать… Должен… знать…
Голова Габриеля вовсе не аквариум, а лес, созданный для птиц, которые, в свою очередь, созданы для птицеловов, которые, в свою очередь, созданы для дудочек и свирелей. Та еще получается музыка —
Должен… знать… Должен… знать…
— Если вдуматься, дорогуша, то я гораздо ближе тебе, чем какой-то макаронник, — со смаком повторяет бродяга. — Он далеко, а Я… УЖЕ ЗДЕСЬ!
«Я УЖЕ ЗДЕСЬ».
Пространство вокруг Габриеля начинает кружиться, пол и потолок меняются местам, корешки книг дряхлеют и скукоживаются на глазах — и над всем этим разливается голос. Немного глуховатый, и в то же время насыщенный обертонами. Голос-дудочка. Голос-свирель.
— Тебе как будто нехорошо, дорогуша? И чего это ты так разволновался? «Я уже здесь» — самые простые слова, которые только можно придумать. Ты согласен? И, кстати, они же выцарапаны у тебя на прилавке, вот здесь. Давно пора привыкнуть к ним. Или тебя больше вдохновляет признание в любви Рите Хейуорт?
— Нет.
— Или признание в любви Ингрид Бергман сильнее греет твою грешную душу?
— Нет.
— Или ты без ума от… — Тут бродяга склоняется над прилавком, смахнув при этом не меньше сотни Lasioderma serricorne, и читает едва ли по складам: — от… несравненной Чус Портильо? Кто такая Чус Портильо? Не та ли это Чус, что все твердила перед смертью о туфлях на высоком каблуке?
— Нет, — шепчет Габриель, захлебываясь слюной. — Нет-нет-нет… «Я УЖЕ ЗДЕСЬ» — моя любимая надпись.
— Еще бы. Ведь если провести от этой надписи воображаемую прямую, то она упрется в пол. А между полом и прилавком находятся ячейки. Одна, другая, третья. Нам нужна ячейка номер три, самая нижняя. Верно?
— Да.
— И что же мы находим в этой волшебной ячейке?.. Оп-оп-оп!!! Фокус-покус-звезда Канопус! Вот и она, шкатулочка!
И двух секунд не прошло, как хьюмидор с потертым изображением революционной битвы на Плайя-Хирон оказывается в руках бродяги, напрасно Габриель не отдал его засранцу Пепе.
Напрасно.
— Это не шкатулка. Это хьюмидор.
— Специальный ящик для хранения сигар. — Бродяга вдруг становится серьезным. — Неужели ты думаешь, дорогуша, что я этого не знаю? Но там лежат не сигары.
— Не сигары.
— А что же там лежит?
— Думаю, вы знаете… Раз вы уже здесь.
— Знаю. Мое прошлое и твое будущее, малыш.
Впервые он назвал Габриеля «малышом» вместо уже привычного, ернического «дорогуши». Впервые в его голосе слышна грусть. Впервые ужас, сковывавший Габриеля все это время, ослабил хватку и впервые в сознании забрезжила хрупкая мысль: «может быть, все обойдется».
— Ты сделал книгу из моего дневника?
— Нет. Я сделал дневник книгой. Я не изменил в нем ни одной строчки, ни одного слова… И все запятые на месте. — Такое трепетное отношение к материалу не должно оставить его собеседника равнодушным, Габриель верит в это.
— Это та самая книга, которая не должна остаться незамеченной?
— Она взорвет рынок. Так говорят издатели.
— Издателям нужно верить. Издатели — тертые калачи. Единственное, чему они никогда не научатся, так это отличать правду от вымысла.
— Никто не в состоянии отличить правду от вымысла. Особенно если вымысел так талантлив, а правда — так чудовищна.
— Ты сообразительный. Иди-ка сюда, присядь рядом.
Бродяга похлопывает по прилавку рукой, указывая на место вблизи от себя, а Габриелю… Габриелю почему-то больше не хочется называть Птицелова бродягой.
— Так как ты назвал книгу?
— «Птицелов». Я назвал ее «Птицелов». А себя — Габриель Бастидас де Фабер. Но я могу снять — и имя, и название. И сделать так, чтобы она никогда не была издана… Если вы не хотите этого. Или издана под вашим именем. Если вы хотите.
— Пусть все остается как есть. — Птицелов легонько похлопывает Габриеля по плечу, и в этом жесте сквозит странная нежность. — Ты и так от нее натерпелся.
— Откуда вы знаете?
— Знаю. Она теперь твоя. А с тобой-то все в порядке? Ничего больше не мучает, не щемит?
Габриель смежает веки и добросовестно прислушивается к себе. Внутри нет ничего, кроме неожиданно обретенного покоя. Лишь изредка нарушаемого тревожным попискиванием фразы, вычитанной из сегодняшнего письма: «…долгосрочный договор на все последующие книги…»
— Не щемит, нет.
— Название, которое ты придумал, вполне удачное. «Птицелов» звучит неплохо. На самом деле я Багги. Багги Вессельтофт. Бывший метатель ножей и коллекционер цирковых плакатов. Никогда не слышал это имя?
Багги Вессельтофт. Фитиль детской памяти Габриеля чадит и никак не может разгореться в полную силу, а кратковременные и тут же гаснущие сполохи огня не в состоянии осветить пространство. Багги Вессельтофт. Быть может,
это один из друзей Фэл? Не скульптор и не дирижер, не репортер криминальной хроники, переквалифицировавшийся в бескрылого светского колумниста. Фотограф — он нравился Габриелю больше всех остальных, но вряд ли ему пришло бы в голову метать ножи в свободное от съемок время. И потом, у фотографа имелись в наличии жена и дочь, а Птицелов не капли ни похож на семейного человека.
— Нет. Вроде бы не слышал. Если бы слышал, то обязательно запомнил. Багги Вессельтофт — такие имена не забываются.
— Да. Так я и предполагал. Имя тебе незнакомо. Зато я знаю о тебе все. С того времени, когда ты был ребенком и вместе со своим приятелем украл у меня сумку.
— Осито. Приятеля звали Осито.
— Это не так важно. Осито не продвинул сюжет ни на миллиметр, и потому его можно смело сбросить со счетов.
— А кто продвинул сюжет? — совсем по-детски спрашивает Габриель.
— Кто? Сеньор Молина, к примеру. Когда мы увиделись впервые, ты упомянул, что ищешь сеньора Молину, мясника. Я тоже нашел его, это было нетрудно, имея на руках его имя и профессию. Я нашел его, а потом через него — тебя.
— Но я… тогда… я мог бы просто выдумать это имя.
— Нет. Ты был слишком напуган, чтобы врать или придумывать что-то. Я хорошо разбираюсь в человеческой психологии, поверь. Я собаку на ней съел за столько-то лет. Я мог бы даже работать психоаналитиком… Что я и делаю время от времени. Внимательно выслушиваю людей, прежде чем…
Габриель не хочет ничего знать про то, что может последовать за «прежде чем».
— А потом? Что было потом?
— Потом я наблюдал за тобой. Чтобы ты не совершил глупости в отношении дневника. Не отнес его, куда следует.
— В полицию?
— В полицию, куда же еще. Ведь все написанное в дневнике — правда. Ты ведь тоже так думал, да? Ты сразу поверил в это?
— Не сразу. Потому что я не сразу прочел дневник. На это мне потребовалось много лет..
— Не страшно сидеть рядом с убийцей, а, малыш?
Глаза Багги сверкают почти безумным огнем, но Габриеля теперь не проведешь: там, в глубине темных бушующих зрачков, все спокойно, и волны неслышно ласкают берег, и лучшего места, чтобы причалить, найти отдохновение и погрузиться в сладостное беспамятство, придумать невозможно. Перенесенные на компьютер, а потом и на равнодушную бумагу строки — и есть беспамятство. Так стоит ли его бояться, если только этого ты и жаждал?