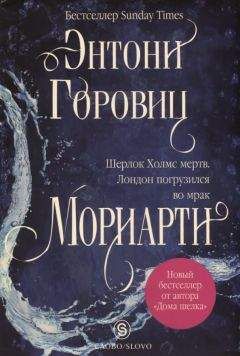– Это благородные животные, – заметила я и, вернув подругу в кресло, заставила просидеть до самого антракта.
Танцующие скакуны исполняли свой номер, а я предавалась размышлениям. Просто удивительно, насколько разнообразно лошадь служит человечеству. Ее впрягают в кареты и безжалостно погоняют – или же дрессируют в цирке. Под щелканье бича она встает на задние ноги и пляшет, повинуясь воле хозяина.
Мне пришло в голову, что люди тоже исполняют противоречивые роли. Впрочем, может быть, я наслушалась речей Нелли Блай.
Как только опустился занавес и начался антракт, Ирен схватила меня за рукав и потащила в лабиринт закулисья.
В гримерных было тесно и шумно, а та, что отвели музыкантам, была самой дальней и маленькой.
В помещениях под сценой пахло канифолью, конским по́том и навозом.
Ирен рыскала по комнате, полной мужчин в вечерних костюмах. В грим-уборной было четыре зеркала, перед которыми лежало штук двадцать пуховок, чтобы припудривать головы, в основном лысые.
Наконец подруга остановилась возле одного из стульев:
– Маэстро!
Залысины на лбу, седые волнистые волосы; тонкий, как струна, но безжалостно скрюченный возрастом. Бесцветные глаза смотрели на Ирен отсутствующим взглядом.
Примадонна стукнула старика в грудь кулачком, и он заморгал.
– Я Ирен Адлер, – сказала она. – Мне нужно срочно с вами поговорить.
____
Мы отправились в «Дельмонико».
Старик вошел в ресторан с величественным видом, но было ясно, что он очень давно не обедал в таком шикарном заведении. Примадонна сорила деньгами, как Крез, и курила одну сигарету за другой.
Я наблюдала за ними.
– Ирен, – прошептал Штуббен в паузе между блюдами. – Не думал, что снова услышу твой голос.
– У меня ваша скрипка. Я хочу ее вернуть.
– Скрипка? Какая скрипка? Она сильно уступает человеческому голосу. Скажи, что ты все еще поешь.
– Я все еще пою.
– А я все еще пиликаю на скрипке. Времена изменились. Не оказал ли я тебе медвежью услугу, спрашиваю я себя. Еще печеного картофеля? В Нью-Йорке бывает очень холодно. Нельзя вернуться в прошлое.
– Маэстро!
Старик съежился, но, казалось, попытался собрать разбегавшиеся мысли.
– Я должна знать, – сказала Ирен, – почему не могу вспомнить собственное прошлое. Артист без прошлого – ничто. Я вернулась, чтобы вспомнить.
Штуббен оттолкнул роскошные блюда. Я увидела голодного старика, которого мучает стыд. Бедняка с дешевой скрипкой. Мне больно было на него смотреть.
– Маэстро! – взмолилась подруга.
– Я обманщик! – воскликнул он. – Мне не доводилось играть настоящую музыку, после того как ты уехала. Ты была моей скрипкой. Моим шедевром. И все же я обманывал тебя.
– Я тоже обманщица? – спросила Ирен с трогательной готовностью принять суждение маэстро.
– Нет! Я, один только я. – Штуббен поднял свой бокал, и официант налил ему вина. – Мое дорогое дитя!
Меня не оставляло чувство, что за всю свою странную одинокую жизнь он никогда не говорил так искренне и тепло. Может быть, Штуббен ее отец?
– Я был одержим музыкой. Мне нужен был… наследник. Тот, кто превзойдет меня. Станет таким музыкантом, каким я никогда не мог быть. И я нашел преемника в тебе. Да, я изнурял тебя работой. Да, я был суровым учителем, беспощадным, как надсмотрщик. Но я понимал, каким даром ты наделена, и считал своим долгом пестовать его – а потом позволить тебе покинуть меня.
– Миссия, которую вы на себя взяли, была очень трудной, – сказала примадонна. – Вы никогда не позволяли мне благодарить вас. Но я понимала, что́ вы для меня сделали, а с годами стала понимать еще лучше. Вы не разрешали высказать вам мою признательность, и я не смела ослушаться. До этой минуты, маэстро.
Он снова съежился:
– Не называй меня так. Ты не понимаешь, какую цену я заплатил, чтобы освободить тебя. И какую цену заставил заплатить тебя. Сегодня я не смог бы так поступить, но тогда меня питали надежды и, возможно, высокомерие.
– О какой цене вы говорите? – нахмурилась моя подруга.
Штуббен вздохнул и покачал головой:
– Моя дорогая Ирен! Какое чудесное имя: богиня мира. Однако твоя биография вовсе не была мирной и безмятежной. Ты пришла ко мне с израненными разумом и душой. Мне нужен был твой голос, я жаждал его. Мне почти не верилось, что он вернется после того, что тебе пришлось пережить. Но оставалась безумная надежда. Я учился в Европе: музыка, вокал, духовные практики. Я познакомился с человеком, который был непревзойденным музыкантом. Он использовал гипноз, чтобы освободить голос от связывающих его пут. Ты потеряла свой дар, и тебя привели ко мне. Меня уверяли, что когда-то ты пела как соловей. Я так отчаянно жаждал верить в соловьев. Итак… я пошел на обман. Я подвергал тебя гипнозу, Ирен, пока твой голос не освободился от прошлого. Сначала одна чистая нота, потом другая – и так постепенно все восстановилось. Но только благодаря гипнозу.
– Я бездушный робот?
– Нет. Ты такая, какой могла бы быть, если бы судьба не отняла твой дар.
– Но… Я могу гипнотизировать других, – призналась Ирен.
Старик кивнул:
– Я передал тебе эту технику. Меня обучил ей музыкальный гений, с которым я познакомился в Париже в пятидесятые – тебя тогда еще не было на свете. Фамилия этого человека была Адлер. Позже, когда он прославился как гениальный музыкант, он представлялся как Свенгали. Он создал величайшее сопрано века из одной натурщицы, позировавшей художникам; ее звали Трильби. Однажды я рассказал тебе о своем учителе, и ты взяла его настоящую фамилию, так как своей у тебя не было.
– Теперь я вспомнила! Адлер! Итак, я ношу фамилию обманщика.
– Нет, он был гением, хотя и сбившимся с пути.
Ирен достала портсигар и спички.
Маэстро нахмурился, когда она затянулась сигаретой:
– Это вредно для связок.
– Нет, на голосе курение не отражается. Кроме того, я теперь не так часто пою, как когда-то.
– И того хуже!
Примадонна вертела синий эмалевый портсигар в руках, и выложенный бриллиантами инициал «И» сиял, как звезда.
Маэстро смотрел на этот мерцающий свет как завороженный. Казалось, он потерял нить разговора.
– Вы должны мне сказать, – произнесла она так тихо, что мы со Штуббеном наклонились над столом, чтобы лучше слышать, – почему я потеряла голос.
– Лучше об этом забыть, – возразил он.
У меня перехватило дыхание, когда я поняла, что Ирен гипнотизирует старика. Правда, она лишь платила ему той же монетой.
А затем я почувствовала, что подруга взывает к мертвым, как настоящий медиум. Она заклинала прошлое, желая, чтобы маэстро вступил в общение с собственным «я» тех лет, а также с ее «я» времен юности.
– Почему я потеряла голос? Я потеряла его в буквальном смысле: не могла говорить? Или только петь?
– Не могла петь, – наконец ответил Штуббен. – И не могла говорить, но тебе и не хотелось. Мне рассказали, что́ произошло, и тогда я все понял.
Ирен выпустила идеальное колечко дыма, которое деформировалось, плывя вверх. Сизый овал показался мне искаженным мукой лицом какого-нибудь призрака на спиритическом сеансе.
Голубые глаза маэстро следили за колечком дыма, пока оно не растаяло в воздухе.
– Вы, юные девушки, жили в театральных меблированных комнатах вместе, и у вас была общая ванная комната.
– Сколько лет нам тогда было?
– О… тебе было семнадцать, когда ты начала брать у меня уроки. К тому времени я обучал тебя полгода. Твой голос был просто чудом, и тебе уже рукоплескали, когда ты выступала на сцене. Однако ты еще плохо знала музыкальную грамоту, и тебе не хватало техники. Нам предстояла большая работа.
– И мы работали. Я уехала из Нью-Йорка, только когда мне было за двадцать.
– За двадцать, – тусклым голосом повторил он.
Ирен тихонько положила портсигар на белоснежную скатерть.
Вокруг нас слышался звон посуды и гул разговоров, как в любом процветающем ресторане. Но наш стол был словно под стеклянным колпаком; казалось, время остановилось, и начался обратный отсчет.
Возле нас возник официант с бутылкой вина, но Ирен сразу же отослала его жестом.
– Что же случилось, – продолжала она, – когда мне было семнадцать и я жила в театральных меблированных комнатах?
– Трагедия. Не то чтобы неслыханная, но все же трагедия. Причем с близким человеком. Софи и Саламандра сообщили мне эту новость, когда ты отказалась приходить на наши ежедневные уроки. Сначала пропустила один, потом следующий. Близнецы объяснили, что ты не можешь петь.
– Но почему? Почему я не могла петь?
– Не могу сказать. Разумеется, я понял, что шок лишил тебя твоего величайшего дара, но до сих пор не знаю, почему потрясение приняло такую форму. Ты будто превратилась в монахиню, давшую обет молчания. Ты всегда была такая трепетная, полная жизни, внимательная к другим. У тебя уже тогда были задатки великой артистки, которая умеет заставить каждого зрителя в зале поверить, что ты поешь для него одного! Патти[71] или Бернар!