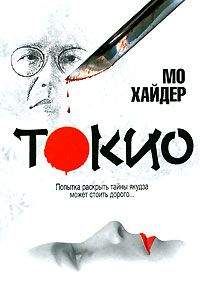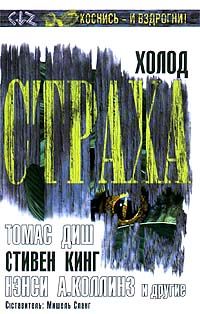ISBN 5-17-040374-7, 5-9713-3784-Х, 5-9762-1556-4 (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)
© Mo Hayder, 2004 ISBN 978-985-13-9214-4
Перевод Д — Н. Омельянович, 2007
(ООО «Харвест») © ООО «Издательство ACT», 2007
Нанкин, Китай: 21 декабря 1937
Тем, кто яростно сражается с суевериями, скажу лишь одно: почему? Почему в своей гордыне и тщеславии пренебрегаете многолетней традицией? И когда крестьянин говорит вам, что тысячи лет назад разверзлись небеса, что гневные боги обрушили великие горы Китая, после чего в стране наступил хаос, почему не верите ему? Вы что же, считаете себя намного умнее его? И умнее всех предшествующих поколений?
А я вот верю. Теперь, наконец верю. Я дрожу, когда пишу эти строки, но это так. Я верю в то, что говорят суеверия. А почему? Да потому, что ничем другим не объяснить причуды нашего мира. Не существует другого способа, который помог бы разобраться в свалившихся на нас несчастьях. Вот потому и обращаюсь к фольклору за утешением. Я верю крестьянину, когда тот говорит, что из-за гнева богов земля повалилась к востоку. Да, я верю его рассказам о том, что все — река, грязь, города в конце концов упадет в море. Нанкин — тоже. Однажды Нанкин тоже скатится в море. Вероятно, катиться туда он будет медленнее других, потому что он уже не похож на другие города. Последние дни изменили его до неузнаваемости, и, когда он начнет валиться, движение это будет медленным, ибо Нанкин привязан к земле своими непохороненными горожанами, и их души станут удерживать город на побережье.
Возможно, я нахожусь в привилегированном положении, потому что вижу город таким, каков он есть в настоящий момент. Из крошечного окошка сквозь решетку вижу то, что японцы оставили от Нанкина: черные от сажи дома, опустевшие улицы, горы трупов в каналах и реках. Опускаю глаза, вижу свои дрожащие руки и удивляюсь, как остался в живых. Кровь высохла. Если потру ладонь о ладонь, на бумагу упадут чешуйки, чернее, чем слова, которые пишу. Дело в том, что тушь водянистая: прежняя, изготовленная из сосновой сажиnote 1, закончилась, а сейчас у меня нет ни сил, ни смелости, чтобы выйти из дома и раздобыть новых чернил.
Если бы я отложил перо, прислонился к холодной стене и, приняв неудобную позу, уткнулся носом в ставни, то увидел бы крыши, а над ними — покрытую снегом вершину Пурпурной горы. Однако я этого не делаю. Никогда больше не стану смотреть на эту гору. Напишу обо всем в дневник и постараюсь не напоминать себе о том, как был на ее склонах, жалкий и оборванный. Из последних сил бежал я за японским солдатом по замерзшим ручьям и сугробам, выслеживал его, словно волка…
Через два часа я его догнал. Мы были в маленькой роще, возле входа в мавзолейnote 2. Он стоял рядом, повернувшись спиной к дереву. Тающий снег падал с ветвей ему на плечи. Голова его была слегка повернута, он вглядывался в лес: горные склоны по-прежнему опасны. На плече его болталась кинокамера.
Я шел за ним так долго, что весь исцарапался и стал хромать, холодный воздух саднил легкие. Я медленно приблизился. Сейчас не пойму, как смог держать свои нервы в узде, ведь я весь дрожал. Он услышал шаги, круто обернулся и инстинктивно согнулся. Я не отличаюсь сильным сложением, к тому же на целую голову ниже его, поэтому, увидев меня, он слегка успокоился и медленно распрямился. Я шагнул к нему. Теперь нас разделяло несколько футов, и он, должно быть, заметил слезы на моем лице.
— Думаю, для тебя это ничего не значит, — сказал он сочувственно, — но хочу, чтобы ты знал: мне очень жаль. Прошу прощения. Ты понимаешь по-японски?
— Да.
Он вздохнул и потер лоб рукой в перчатке из потрескавшейся свиной кожи.
— Я этого не хотел. Никогда не хотел. Прошу, поверь. — Он поднял руку и указал в сторону храма Лингу. — Верно то, что Ему это нравилось. Ему всегда это нравилось. А мне — нет. Я смотрю на них. Снимаю на пленку то, что они делают, но удовольствия от этого не получаю. Пожалуйста, поверь мне. Я не получаю удовольствия.
Я отер лицо рукавом, убрал слезы. Шагнул вперед и положил ему на плечо дрожащую руку. Он не отшатнулся. Стоял и озадаченно вглядывался в мое лицо. Страха в его глазах я не заметил: должно быть, он решил, что я — безобидный горожанин. Он понятия не имел о зажатом в моей руке маленьком фруктовом ноже.
— Отдай камеру, — сказал я.
— Не могу. Не думай, что фильмы я снимаю ради развлечения солдат. У меня более высокие цели.
— Отдай камеру.
Он покачал головой.
— Ни за что.
После этих слов мне показалось, что мир вокруг нас стал медленно рушиться. Где-то внизу, на отдаленных склонах, японская артиллерия вела мощный обстрел, японцы гнались за отрядами националистов, окружали их, заставляя вернуться в город, но здесь, наверху, слышно было лишь биение наших сердец да треск сосулек, падавших с деревьев на землю.
— Говорю еще раз: отдай камеру.
— Я тоже повторяю: ни за что.
Я открыл рот, подался вперед и заорал прямо в его лицо. Крик этот накапливался во мне все то время, что я гонялся за ним по снегу, и теперь я завопил, словно раненый зверь. Я прыгнул и вонзил в него свой маленький нож. Он проник в его форму цвета хаки, прошел сквозь заветный пояс сеннинбариnote 3. Солдат не произнес ни звука. Лицо его исказилось, голова дернулась так быстро, что армейская фуражка свалилась. Мы оба сделали шаг назад и в удивлении смотрели на то, что я сделал. На снег пролились потоки крови. Через отверстие в форме видно было, что живот его раскрылся, словно перезрелый фрукт. Солдат озадаченно смотрел на него. Потом ощутил боль, бросил винтовку и схватился за живот, пытаясь запихать внутренности обратно.
— Что ты наделал? — сказал он.
Я пошатнулся и попятился, уронил нож в снег, словно слепой, нашарил дерево и прислонился к стволу. Солдат, качаясь, двинулся в лес. Одной рукой он держался за живот, в другой по-прежнему держал камеру. Шел он, как пьяный, но голову тем не менее держал высоко, с достоинством, словно место, в которое он направлялся, было особенным. Казалось, где-то там, за деревьями, его ожидал лучший, безопасный мир. Барахтаясь в снегу, я спешил за ним, дышал быстро и горячо. Миновав около десяти ярдов, солдат споткнулся, почти потерял равновесие и выкрикнул какое-то японское женское имя — то ли матери, то ли жены. Поднял руку, и от этого движения разверстые внутренности, должно быть, сдвинулись — из раны выскользнуло что-то темное и длинное, шлепнулось в снег. Он наступил на это, попытался устоять на ногах, но из-за сильной слабости, шатаясь, пошел по кругу. За ним тянулась длинная красная лента. Мне показалось, что это не смерть, а рождение.
— Отдай ее мне. Отдай камеру.
Ответить он не мог. Солдат потерял способность соображать, он больше не понимал, что происходит. Упал на колени и завалился на бок. Через секунду я был возле него. Губы солдата посинели, и зубы окрасила кровь.
— Нет, — прошептал он, когда я отодрал его пальцы от камеры. Он уже ничего не видел, но чувствовал, где я. Ощупал мое лицо. — Не бери ее. Если ты ее заберешь, то кто скажет миру?
Если ты ее заберешь, то кто скажет миру?
Эти слова остались со мной. Они останутся со мной до конца моих дней. Кто скажет! Я долго смотрю на небо над домом, на черный дым, поднимающийся к луне. Кто скажет? Ответ один: никто. Никто не скажет. Все кончено. Это — последняя запись в моем дневнике. Я больше ничего не напишу. Остальная часть моей истории записана на пленку, она в камере, и то, что произошло сегодня, так и останется тайной.
Токио, лето 1990
Иногда приходится совершить усилие. Даже если устала и голодна и находишься где-то в чужой стороне. Так было со мной в то лето в Токио. Я стояла возле двери профессора Ши Чонгминга и дрожала от волнения. Постаралась придать волосам аккуратный вид, долго возилась со старой юбкой из «Оксфам»note 4 — вычищала пыль, разглаживала ладонями измявшуюся в дороге ткань. Оттолкнула ногой видавшую виды сумку, которую привезла с собой: я не хотела, чтобы она сразу бросилась ему в глаза, потому что самое главное — выглядеть нормальной. Пришлось сосчитать до двадцати пяти, сделать несколько глубоких вдохов, чтобы набраться смелости изаговорить.
— Привет, — сказала я нерешительно, приблизив лицо к двери. — Вы здесь?
Немного подождала, прислушалась. Слышно было шарканье, но к двери никто не подошел. Снова подождала, сердце колотилось все громче. Затем постучала.
— Вы меня слышите?
Дверь отворилась, я в удивлении сделала шаг назад. В дверном проеме стоял Ши Чонгминг, очень элегантный и достойный. Руки по швам, словно он предлагал себя осмотреть. Был он невероятно маленький, кукольный, правильные черты лица, узкий подбородок, длинные седые волосы… казалось, он накинул на плечи белоснежную шаль. Я стояла открыв рот, потеряв дар речи.