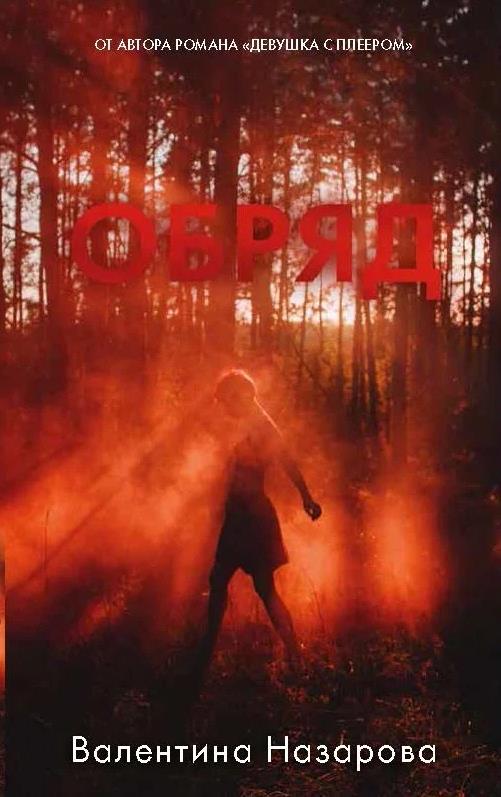обратно к стеллажу, обернув ладонь рукавом, стирает с одной из банок слой пыли. Тьфу ты блин, морошка это, моченая. Мишаня посмеивается над своей тупостью и радуется, что никто не видел, как он испугался.
Дальше он идет чуть смелее, теперь светит фонариком под ноги, наконец доходит до двери в комнату, тоже закрытой. Перед ней, почти преграждая ему дорогу, на полу валяется сделанная из куска старого матраса засаленная лежанка, на которой видны еще длинные серебристые ворсинки шерсти. Подле нее — добела изгрызанный кусок оленьего рога. Мишаня осторожно двигает лежанку носком кроссовка, и на секунду ему кажется, что она даже теплая, будто спавшая на ней собака где-то неподалеку. Он приседает и трогает ее рукой, но она на ощупь влажная и гнилая.
Мишаня отдергивает пальцы, поднимается и поворачивает ручку двери. Пахнет пылью. Тут же в лицо ему врезаются тонкие нитки паутины, натянутые через всю комнату и искрящиеся в свете фонарика. Он отмахивается руками, трет щеки и нос, лихорадочно стряхивает с выбившихся из-под красной шапки волос полчища невидимых пауков.
Зачем ребята послали его внутрь? Чтобы проверить, не сожрет ли их здесь заживо кровожадная мошкара, которая, чуя скорую зиму, спешит набить брюхо? Или почему-то еще? Он осматривает комнату. На зеленых обоях, выцветших, но сохранивших еще отчего-то смутно знакомый рисунок из грязно-белых цветочных кружев, виднеются бурые потеки, доходящие до самой земли, прячущиеся за устланной коричневым покрывалом тахтой. В углу, там, где должны быть образа, только светлое прямоугольное пятно. У окна на столе разбитая керосиновая лампа и куски штукатурки, обвалившейся с потолка.
Мишаня оборачивается уже, чтобы идти на улицу позвать парней, когда луч его фонарика проскальзывает в противоположный угол, выхватывая на миг какие-то буквы. Мишаня прицеливается лучом и пытается прочитать надписи. У него несколько секунд уходит на то, чтобы понять, что красные буквы, которые виднеются на стене, в том месте, где обои разлезлись и лоскутами сползли вниз, — это не буквы вовсе, а какие-то знаки. Точнее, один-единственный знак, повторяющийся снова и снова: круглое черное солнце встает над верхушкой пологой горы.
И вроде бы нет в этих знаках ничего особенного, но как только он видит их, изба будто меняется, будто сходят с нее паутина и пыль, и все начинает выглядеть так, словно Мишаня влез туда, где его быть не должно, и вот-вот придет хозяин, и он слышит уже за дверью, как водит носом его зверь, учуявший чужака. Он выбегает из комнаты, почти сваливается с лестницы и оказывается у входной двери. Полено исчезло, она закрыта накрепко, он ломится в нее и стучится, чувствуя, как в висках барабанит сердце. Внезапно дверь просто распахивается, как будто ее кто-то держал, а потом отпустил. Снаружи стоит мужик в шапке. Черная фигура в свете звезд. В эту секунду Мишаня уже знает, что это Васька Финн, что они разыграли его, прикололись над ним, как над дебилом, развели, но он не может сдержать крика. Он орет что есть мочи, ревет как зверь на всю улицу, так что в черных пустых домах звенят уцелевшие окна, а потом бьет Ваську кулаками в грудь со всей силы — тот отбрасывает его на землю, и у Мишани тут же на глаза наворачиваются слезы.
— Васек, ты кретин, конечно, — шипит сквозь зубы Саня. — Мелкий, ну ты чего? Пошутили ж мы!
— Да какой он мелкий? Выше тебя и драться еще лезет, — усмехается Васька.
Мишаня только всхлипывает, сжавшись в комок. Все теперь, опозорился. Трус.
— Ну вставай. — Васька протягивает ему руку. — Вставай, пошли налью.
Мишаня поднимает на него глаза: сквозь размазанные слезы все плывет, и ему кажется, что небо над Васькиной головой, будто река, переливается зеленым и серебристым.
Не дождавшись ответа, Васька подхватывает его под руку и резко поднимает на ноги.
— Ты дрыщ такой, Миха. — Он цокает языком, пока Мишаня отряхивает с себя грязь. — Приходи на турник после школы, покажу, как качать бицуху.
— Угу.
— А чего разревелся-то?
— Да… я не ревел, — Мишаня смотрит то на него, то на Саню. Нельзя сказать, что ему больно, нельзя признаваться.
— Оставь его, Санек, у него ж брат умер. — Васька стаскивает с головы меховую шапку.
— А че это у тебя за шапка? — тут же переводит на него глаза Санек.
— Да на заборе висела.
— Дурак ты, — цыкает на него Саня, — это деда этого шибанутого шапка, наверное.
— И че? В меня теперь вселится дух его? — Васька сплевывает на землю. — Бухать пошли, а то мошки зажрали. В доме-то как? Не нагажено?
— Нет. Только… надписи на стенах.
— Ха, ну это ничего! Тут мы и сами добавить можем художеств!
* * *
Когда Мишаня заходит в избу старика в компании старших ребят, она кажется ему абсолютно другим местом — обычной заброшенкой с черепками посуды на полу и поломанной и растасканной селянами на костры мебелью. И как он не заметил этого, когда заходил? Даже лежанка собаки кажется простой грязной тряпкой на полу.
Впрочем, знаки на стене остались прежними.
— Треугольник с кружком, — многозначительно произносит Васька и заваливается на тахту. — Че это значит-то вообще?
— Ты в курсе, что на этой хреновине дед, скорее всего, и откинулся? — цедит Саня, щелкая колечком на банке с «Морсберри».
— Че, правда? — Васька вскакивает, сбивая с боков пыль. — Прикол.
Он поднимает покрывало и рассматривает ветхую, но чистую обивку тахты под ним, потом откидывает его в сторону и садится. Мишаня нерешительно топчется у входа до тех пор, пока Саня знаком не указывает ему на пакет. Он берет оттуда банку, открывает и делает глоток уже знакомой приторной дряни, потом садится на уголок тахты.
— Это правда, что у Пети лицо сожрали? — спрашивает вдруг Васька, так резко, что Мишаня давится и закашливается. — Гроб-то закрытый был.
— П-правда, — вымучивает из себя он, едва справившись с кашлем.
— Прям совсем?
— Совсем.
— И даже лоб?
— Вась, ну ты дебил совсем? — фыркает Саня. — Ты че спросил-то,