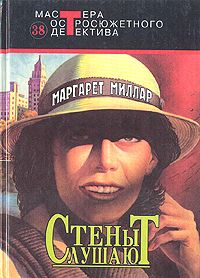— Какие для этого могли быть основания?
— Сами посудите: он был кротким и безответным, я деспотичной, брюки ему достались по ошибке, он с радостью бы отдал их мне, да-да, именно так все и говорили! И лишь немногие — Джон Ронда и его жена в их числе — знали, что, кроме меня, брюки в нашей семье носить действительно было бы некому! Патрик был мягким, любящим, нежным, но деньги не значили для него ничего. Неоплаченные счета были всего-навсего бумажками. Я с радостью пошла бы работать, но это подорвало бы в Патрике уверенность в себе — и без того хрупкую. Мне все время приходилось лавировать между слабостями Патрика и его потребностями.
— Немногие женщины могли бы быть очень, очень счастливы при такой жизни.
— Вы так думаете? — спросила она. — Плохо же вы разбираетесь в женщинах.
— Не спорю.
— И в любви.
— Наверное. Но хочу разобраться, надеюсь, мне еще повезет.
— Не думаю, — спокойно сказала она. — Вам уже поздно. Любовь выживает, когда человек еще достаточно молод, чтобы держать удары, которые она наносит, и выходить из нокдауна при счете «девять». Мой сын Ричард, — прибавила она с гордой улыбкой, — увлекается боксом, это его словечки.
— Ронда говорил, что ваш сын — очень способный мальчик.
— Мне тоже так кажется, но ведь я необъективна.
— Расскажите, как с вашим мужем случилось несчастье, миссис О'Горман.
Она посмотрела на него в упор.
— Мне нечего прибавить к тому, что вы прочли в материалах, которые получили от Ронды.
— Там не указано одно обстоятельство. В вашей машине была печка?
— Нет. Нам она была не по карману.
— Во что был одет мистер О'Горман, когда выходил из дому?
— Вы знаете во что, если читали протокол моего допроса: в клетчатую черно-желтую рубашку из фланели.
— Шел дождь?
— Да, и несколько дней до того — тоже.
— Но на мистере О'Гормане не было ни плаща, ни пиджака?
— Я понимаю, к чему вы клоните, — сказала она. — Не тратьте зря времени. Плащ был Патрику не нужен, потому что и у нас, и в конторе гаражи соединены с домом. Ему не нужно было идти под дождем.
— Но, насколько мне известно, вечер был холодным.
— Патрик холода не боялся. У него даже не было пальто.
— По сводке погоды, которая сохранилась у Ронды, в тот день было всего девять градусов.
— Рубашка была шерстяной, — сказала она, — и очень плотной. И потом он ужасно торопился, был вне себя. Он буквально выбежал из дому, так ему не терпелось исправить ту проклятую ошибку, прежде чем ее кто-нибудь заметит.
— Был вне себя, — повторил Куинн. Такое выражение не слишком подходило к образу тихого, уступчивого, лишенного тщеславия О'Гормана. — Несчастный случай произошел на пути в контору?
— Да.
— Если ваш муж так спешил, тем более странно, что он остановился, чтобы посадить в машину какого-то неизвестного.
— Никого он не сажал, — сказала она с раздражением. — Этот неизвестный существует исключительно в воображении Ронды и нашего шерифа. Во-первых, Патрик торопился, а во-вторых, неделей раньше человек, которого подобрала на дороге одна пара из Чикото, ограбил их, и Патрик дал мне слово, что не будет подвозить незнакомых.
— А что, если он подвозил знакомого?
— Но кого? У Патрика ни с кем не было счетов. И если бы кто-то захотел отнять у него деньги, он бы их сам отдал, без борьбы. — Она обреченно махнула рукой. — Нет, я уверена, что это был несчастный случай, а не убийство, и меня не переубедят. Патрик спешил, он ехал гораздо быстрее обычного, а видимость из-за дождя была плохой.
— Вы очень любили своего мужа, миссис О'Горман?
— Я бы все для него сделала. Все, что угодно. Я и теперь… — Она замолчала, прикусив дрожащую губу.
— Вы и теперь не отступились бы от него?
— Да. Должно быть, это глупо, но я иногда думаю: а вдруг с Патриком в тот вечер произошло что-то невероятное? Вдруг он сошел с ума, потерял память? Если он когда-нибудь вернется или его найдут, я останусь с ним.
— Люди не сходят с ума в одну минуту. Вы бы заметили, что с ним неладно, раньше. Вам ничего не казалось странным в его поведении?
— Нет.
— Может, он сделался раздражительным или у него появились новые привычки, он стал иначе одеваться, плохо спать, отказываться от еды?
— Нет, — повторила она. — Пожалуй, он сделался еще тише, сосредоточенней.
— Когда вы говорите «сосредоточенный», то имеете в виду «задумчивый» или «грустный»?
— Грустный. Я даже сказала ему как-то в шутку, что он спит наяву, а он ответил, что вернее было бы сказать «спит во сне». Помню, я еще засмеялась, мне этот «сон во сне» показался очень забавным.
— Да, — сказал Куинн. — От него не просыпаются.
Компания по продаже недвижимости Хейвуда занимала первый этаж здания маленькой гостиницы. На стенах ее висели карты города и штата, аэроснимок Чикото и две гравюры: одна изображала Вашингтона, форсирующего Делавэр, другая — Линкольна в молодости.
Юноша без пиджака, с изжелта-бледным лицом назвался Эрлом Перкинсом. Хотя в комнате стояло несколько столов с табличками, на которых значились фамилии служащих, Перкинс был единственным, кто находился на работе, и было непонятно, то ли дела идут настолько плохо, что остальные не считают нужным появляться, то ли настолько хорошо, что все, как Вилли Кинг, демонстрируют участки потенциальным покупателям.
— Мне нужна миссис Кинг. Когда я могу ее видеть?
— В любое время. То есть в любое удобное для нее время. Здесь что хотят, то и делают. Никто не соблюдает никаких правил! Вы работаете, мистер?..
— Куинн. Да, работаю.
— Тогда вы знаете, что любое, даже наилучшим образом организованное предприятие развалится, если служащие перестанут строго придерживаться правил работы. Что тогда ждет общество? Хаос!
— Довольно уютный и мирный хаос, — сказал, оглядывая комнату, Куинн.
— Хаос может не иметь пугающих внешних признаков, — назидательно продолжил Перкинс. — Например, мой обеденный перерыв начинается в двенадцать, а кончается в час. Уже почти час, а я еще не ел. На ваш взгляд это пустяк, а на мой — нет. Я бы уже к одиннадцати клиента отпустил и сюда вернулся, потому что занимаюсь делом, а не пускаю боссу пыль в глаза.
— Давно миссис Кинг работает у Хейвуда?
— Не знаю. Я здесь только с января.
— А мистер Кинг имеется?
— В наличии? Нет, — с удовольствием сообщил Перкинс. — Она в разводе.
— Давно вы живете в Чикото?
— Всю жизнь, кроме тех двух лет, что учился в колледже в Сан-Хосе. Представляете? Два года грызть науку, чтобы вернуться… Ну вот, кажется, вам повезло.
Дверь распахнулась, втолкнув в комнату волну жаркого, сухого воздуха, и вошла Вилли Кинг, в белом платье без рукавов и широкополой шляпе. Из-за шляпы она не сразу заметила Куинна.
— Прости, Эрл, я опять опоздала.
— Видно, я не заслуживаю другого отношения, — скорбно отозвался Перкинс. — Моя язва…
— Зато участок, можно считать, продан. Пришлось, правда, соврать насчет климата.
Она бросила сумочку на стол, сняла шляпу и увидела Куинна. Ее лицо не дрогнуло, и лишь губы сжались плотнее.
— О, я не заметила, что у нас клиент. Могу я чем-нибудь помочь вам, сэр?
— Безусловно, миссис Кинг.
— Эрл, — сказала Вилли, — пойди поешь хорошенько. И никакого перца, никакого кетчупа!
— Я заболел не от перца и кетчупа, — заявил Перкинс, — а от того, что мы живем без правил!
— Ладно, подумай заодно, какие нужны правила. Составь список.
— Уже составил.
— Составь еще один.
— Зря смеешься, я так и сделаю! — сказал Перкинс и вышел, хлопнув дверью.
— Какой он еще ребенок, — сказала Вилли материнским тоном. — Слишком рано нажил язву. Надеюсь, у вас язвы нет, мистер Куинн?
— Нет, но может появиться, если я буду глотать истории, которыми вы меня потчуете, миссис Кинг, и дело тоже будет не в перце и кетчупе. Как съездили в Лос-Анджелес?
— Я передумала.
— Решили, что Чикото все-таки достаточно приятный город?
— Нет. Чикото — дыра.
— Тогда выбирайтесь из нее!
— А что, если я провалюсь в дыру похуже? — спросила она, дернув голым плечиком. — Здесь, по крайней мере, у меня давние, прочные связи.
— Такие, как мистер Хейвуд?
— Да, конечно. Мистер Хейвуд мой хозяин.
— Только на работе или в свободное время тоже?
— Я вас не понимаю, — ласково произнесла она, — или, может, вы имеете в виду вчерашний вечер?
— Как вы угадали, миссис Кинг?
— Если хотите знать, идея была целиком и полностью моей. Я слышала, как вы говорили с Рондой в редакции, когда принесла туда объявления, и, конечно, мне стало ужасно любопытно. Подумать только, снова дело О'Гормана! В Чикото сказать «О'Горман» все равно что в Сан-Франциско — «землетрясение».