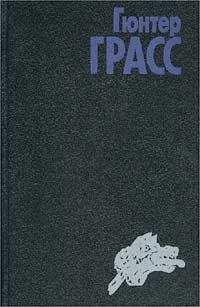— Я?
— Не совсем, но очень похожа, когда волосы распущены, я напильником убрал несколько выпуклостей, мешали, заслоняли образ. Наверно я тебя такой видел тогда, в Питере, но никак не мог вспомнить, все где–то на уровне подсознания.
Душа девушки ныла: наивные ее сети разлетелись в клочья, он много богаче ее, но в то же время деньги для него ничто!.. Рядом с оградой, вскинув головы, грозно зарычали суки: зверя почуяли, или же…
— Что ты думаешь о Никодимыче?
— Он очень опасен! Гад, завез меня сюда лишь для того, чтоб трахнуть! Отсюда у него такая беспричинная злоба к тебе, ведь ты так некстати. Если меня с ним не видели б в Чайбухе, он бы силком меня в лодке, а потом выкинул бы за борт… Ты думаешь, он не унюхал, что здесь золотишком пахнет? — Евдокия прищурила кошачьи, изумрудные глаза. — Точно, я только сейчас поняла! — торжествующе крикнула она. — Моя записка — его алиби… Зачем, спрашивается, ему отвечать за кого–то, его дело сторона, а тут вдруг такое внимание к моей персоне, внимание даже тогда, когда ему ничего не обломилось. Не–ет, чует мое сердце, он где–то рядом, сторожит нас, ожидая момента. Сначала он убьет тебя, потом перещелкает собак, меня же… (с каким–то странным удовольствием и азартом она развивала свою версию) на время оставит, натешится, а потом кокнет. Нет, не кокнет, ведь я тоже люблю золото, сделает подельницей, кровью повяжет, буду молчать, аки рыба, но… Выжду и его пришью, не сама конечно, найму кого–нибудь, ведь у меня будет столько золота…
Когда, смеясь, девушка все это говорила, Степан вдруг поверил: а ведь и вправду она может так повернуть дело!
…Оставив лодку за западным мысом, где в скалы врезано много крохотных бухточек, замаскировав ее охапками рыжих водорослей, перейдя распадок, Никодимыч взобрался на гребень сопки.
На расчесанных лице и шее он давил брюхатых комаров. Пусть жратва — полудохлая рыба в озере, пусть мочит туман, роса, ест заживо гнус, но он все же дождется, когда волосатик рыжей сучке, корчившей из себя ц…у, покажет золотишко! Он обязательно расколется, разве перед такой сочной кункой устоишь!..
Никодимыч с гребня сопки определил место, куда в последний раз ступит нога врага. Он несколько раз взял на мушку этот древний валун в разноцветных брызгах лишайников. В кедраче комары обжигали ржавым пламенем, плешивый уже не отхлебывал из бутылки, а спиртом натирал горевшие лицо, шею, руки.
…От солнца осталась лишь темно–багровая полоска, небо над ней холодно зеленело.
Степан принес пару кижучей, в ведре печень, куски жира, мяса, почти вся добытая нерпа досталась стае.
На фанерном ящике (подарок моря), застеленном цветастым шелковым платком, французский шоколад, голландский гусиный паштет, палка венгерского салями, две банки крабов. Смешно, он ест свежих крабов, а тут консервы!
— Зачем все это? — Степан мотнул голой в сторону ящика. — Эта еда хороша в городе…
— Я хотела тебе сделать праздник, ты что, забыл, ведь сегодня у тебя день рождения! — губы девушки дрожали от обиды, щеки налились пунцовой краской.
— Прости, я не хотел тебя обидеть… — его пальцы нежно коснулись девичьей щеки, каменными заусеницами мозолей оцарапав кожу. Степан уже давно не отмечал своих именин, это дело считая не слишком важным. Взяв саперную лопатку, не сказав ни слова, он вышел из пещеры…
При свете большой оранжевой луны Никодимыч четко видел человека, копавшего землю возле каменной стены обрыва, в метрах сорока от пещеры.
— Матерь Божия! — не веривший ни в Бога, ни в черта, он неумело перекрестился. От жгучей радости, спиртом ударившей в голову, лицо его сияло… Значит, шлюшка все же раззадорила бородатого хмыря! Только пару мешочков достал? В схоронке должны быть еще, жила о-очень богатая!.. Ну да ладно, остальные сам достану, Дуньке буду пупок самородками обкладывать. Тьфу, осел! (Выругал он сам себя) С бабой еще надо договориться, глаза у нее сучьи, треть золота непременно запросит, а то и половину. Но ничего, повяжу кровью, записочка–то у меня! Будет возникать, скажу, что из–за золота кокнула полюбовника из моего ружья, которое я в спешке забыл.
— Ох, Никодимыч, ну и шустряк!.. — в глухоте переплетенных, клейких веток беззвучно хохотал плешивый, восторгаясь своей находчивостью.
На каменный пол, прикрытый шкурой, тяжело упали черные мешочки, испачканные землей.
«Золото!..» — догадалась Евдокия. Степан восторженно смотрел на нее, пока он копался в земле, она успела принарядиться.
Девушка вдруг стала недоступно прекрасной и загадочной с медным жгутом на белой, плавной шее, охваченной хризолитовым колье, такие же зеленовато–желтые камни в ушах и на пальцах. На полупрозрачных по локоть перчатках разбросаны черные крестики. Вечернее, голубое бархатное платье с большим вырезом на груди струилось вниз, чернели узкие носки лаковых туфелек на высоком каблуке. От настоящей женской красоты Степан ощутил дотоле незнакомую робость, смущенно взглянул на свои грязные джинсы, на драную на локтях рубашку.
Две сближенные рюмки родили хрустальный звон.
— Значит, ты родился под знаком льва, — Евдокия серебряной ложечкой с монограммой из погнутой миски зачерпнула красной икры, — а я вот скорпион…
— Смотри! — восторженно воскликнул Степан, из мешочка высыпав самородки. — Разве человек в своей фантазии может так изощриться? Природа в кварце отлила ветку пальмы, но как ажурно, как изящно! Откуда ей здесь знать о пальме…
Евдокия спокойно, оценивающе глядела на груду фигурок. В девушке с распущенными волосами, в разлапистой лиственнице, в сохатом, касатке, рыси она видела только золото. Светлые озера глаз хозяина пещеры потемнели: она все там, откуда он убежал…
— У тебя только два мешочка? — девушка выпила третью рюмку «Шартреза», закусила шоколадом.
— Какая разница, два, три, даже четыре, разве за золото можно купить долину? Земля сама выбирает себе хозяина, верного друга, сотоварища, собеседника. К примеру, в тайге зимовье, но по какой–то причине хозяин на следующий год не приходит. Поселяется там другой, тоже профессионал, но его капканы чистит росомаха, соболь не идет в ловушки, белка уходит от выстрела, или же, убитая, застревает на верхушке дерева, собаки (обычно их две–три) гибнут одна за другой. Он неудачник? Нет, просто зимовье его не приняло, не принял дух тех мест… В городе этого не понимают, но настоящие таежники чувствуют нечто такое в природе, это, как НЛО. Ты, женщина, но не чувствуешь, это не оттого, что у тебя нет сердца («А у меня и вправду нет сердца!..» — Евдокия вдруг вспомнила доцента), просто твои чувства направлены на видимое, осязаемое, понятное, конкретное. Отсюда и любовь твоя конкретна, предсказуема. Я же люблю то, чего не увидать, не уловить слухом, не ощутить пальцами, я люблю душу этой долины!
Из голубых складок платья пролились красноватые тона, квадратные следы от каблучков отметились на крепчайшей лахтачьей шкуре. Сняв перчатку, девушка запустила руку в котелок с жареным мясом. Клацая клыками, кобельки ловили в воздухе лакомство, суки же держались поодаль, злобно скаля клыки. От пяти рюмок Евдокию пошатывало, столько она еще не пила.
— Может, хватит? — тихо попросил Степан.
— Свое пью, горе горьким заливаю, ведь долина дороже меня! Знаешь, сколько унция золота на мировых рынках? — глаза девушки уже не были пьяными, смотрели тяжело, наливаясь прозрачной волчьей зеленью. — Триста девяносто зеленых! А твои мешочки, наверное, по полпудика каждый. Сколько мне подаришь?
— Могу отдать все, кроме мешочка с фигурками, — тихо ответил Степан, глядя в ночь, — но знай, золото всегда притягивает кровь, где много золота, там всегда много крови… За большое золото надо непременно платить, порою собственной жизнью.
Усилился ветер, тревожно зашумел стланик, пламя светильников прижалось к краям консервных банок, мохнатые тени заметались по стенам пещеры. Стало прохладно, ночь ворвалась в жилье… Степан задернул лахтачий полог.
Евдокия на спине опустила вниз язычок «молнии», темно–голубая роскошь упала к ее ногам. Теперь она лишь в полупрозрачном дорогом белье и туфлях, не сдерживаемая плотиной гребня рыжая лавина залила округлые, бело–розовые плечи. Прижав к щеке маленький японский радиоприемник, Евдокия в такт музыки сладострастно поводила бедрами. Степан морщился от металлических, раздражающих его звуков. Рассмеявшись, девушка махнула ногой, сорвавшаяся со ступни туфелька чуть было не угодила ему в лоб. Внезапно оборвав свой медленный, странный танец, который почему–то пугал Степана, она легла на шкуру, на лобок положив золотую пальмовую ветвь.
— Как фиговый листок на статуях! — хрипловато рассмеялась она. Ее белое, плавное тело резко выделялось на лахтачьей шкуре. Лицо девушки окаменело, глаза неподвижно уставились в одну точку. Теперь–то с золотом она, наконец, станет свободной! Если Тамара ее не отпустит, тогда она уничтожит ее, как та уничтожила доцента…