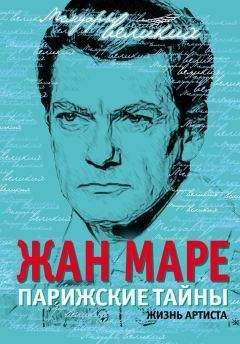— Прошу прощения… Месье Видок?
— Что еще?
— Я подумал, может, теперь я пойду домой?
Он отвечает взглядом, полным нескрываемого изумления.
— С какой стати?
— Просто я решил… одним словом, от меня ведь больше не будет никакой пользы.
У него отвисает челюсть.
— Поскольку… — Я сопровождаю слова многозначительной заговорщицкой улыбкой. — Одним словом, раз уж я не могу… не в состоянии со всей определенностью опознать несчастного месье Леблана, по-моему, больше я не принесу вам никакой пользы.
Он опускает голову все ниже, до тех пор, пока она не оказывается вровень с моей, — и тогда я начинаю чувствовать на своих щеках его обжигающее дыхание.
— Слушайте внимательно! Убит человек, и вам что-то об этом известно. Чем больше кусочков головоломки мы соберем, тем выше вероятность, что пробудится ваша куриная память. И в этот момент я хочу быть рядом, потому что, по-моему, вы вовсе не такой идиот, каким кажетесь.
Его лицо перекашивает гримаса отвращения, он резко отворачивается.
— Месье Теперь Я Пойду Домой, вы пойдете домой тогда, когда я скажу!
С этими словами он возобновляет свой путь, и попробуй я за ним не последовать! И только один вопрос, один-единственный, заставляет меня опять раскрыть рот:
— А куда мы направляемся?
Но надежда на получение ответа сводится на нет уже самим звуком моего голоса, похожего на пронзительное блеяние, выдающего меня с потрохами, со всей этой зеленой дрожащей сердцевиной. Я замечаю себе никогда больше не спрашивать у него, куда мы идем. И никогда больше не спрашиваю.
Сказать по правде, не похоже, чтобы мы шли в какое-то определенное место. Морось временно прекратилась, и у облаков появилась нежно-желтоватая, светящаяся одуванчиковая опушка. Неплохое время для прогулки.
Ну и парочку же мы составляем! Я в своих черных, лоснящихся на коленях брюках и в черной куртке, протертой почти до дыр на локтях. И Видок, шагающий, подобно свергнутому монарху, в промокшем тряпье Барду. По истечении некоторого времени он останавливается на углу зашнуровать кожаные лохмотья, которые служат ему башмаками, и медовым голосом осведомляется:
— Надеюсь, я не слишком огорчил вас, доктор?
— А почему я должен огорчаться?
— О, некоторые не любят, когда нарушают их распорядок дня.
Я отвечаю, что у меня нет особого распорядка. В смысле, такого, о нарушении которого стоило бы беспокоиться. Он качает головой.
— Доктор, вы позволите возразить? Вы говорите неправду! Я следил за вами только день, но знаю все. Утром, с девяти тридцати до одиннадцати, Медицинская школа. Затем Ле Пер Бонве, там вы выпиваете чашку кофе, а потом стакан воды с сахаром. Газетку свою вы аккуратно прячете в карман куртки (в Бонве ведь не отслеживают, куда деваются газеты?). Оттуда вы направляетесь прямиком домой. Чуть-чуть послоняетесь, почитаете, вздремнете, почините что-нибудь. А там и обедать пора, с маман и жильцами. Вечером перед сном — прогулка с табачком за щекой. Вы гуляете только по своему кварталу, дальше не ходите. Ложитесь спать, назавтра то же самое. Так ведь?
Многое можно оспорить. Например, иногда я задерживаюсь в Медицинской школе до двенадцати. И нет-нет, да и выпиваю чашку горячего шоколада в «Золотом веке». И табак жую только в тех случаях, когда мне не нравится приготовленный Шарлоттой ужин.
Но все возражения станут еще одним подтверждением его правоты. Поэтому я молчу, что уже само по себе признание.
— Вы человек весьма регулярных привычек, доктор, в особенности для того, кто не имеет…
Работы, хочет он сказать. Жизни. Что-то мешает ему закончить фразу.
— Да-да, — он сопровождает свои слова задумчивым кивком, — по вашему расписанию можно сверять часы.
И вдруг, вероятно оттого, что собственные слова кажутся ему слишком положительными, добавляет:
— Это характерно для преступников.
Переходим мост Сен-Мишель, трусим по улице д'Арци, сворачиваем направо на Нове-Сен-Медерик… и почти сразу улицы начинают сужаться, как воронки. Это означает, что мы в старом Париже. Шум бульваров уступает место стуку каблуков и цокоту копыт по булыжникам. Улицы то вьются, то вдруг резко бросаются в сторону, оборачиваются к вам спиной, заставляют замереть на месте. Сточные канавы похожи на гнойные раны, а здания, построенные несколько столетий назад, ковыляют неверной походкой, во всем черном.
Здесь, в Маре, не ощущается величественного изначального плана, зато чувствуется своего рода неестественный порядок, в соответствии с которым происходит все вокруг. С неизбежностью восхода и заката, мокрый мартовский снег оставит после себя мутные лужи вокруг угловых столбов, и эти воды сольются с пенными потоками из почерневших от плесени сточных канав, и вместе они породят особую грязь, столь неповторимо парижскую по своему аромату и происхождению. Если станете слишком усердно топать, то сможете ощутить ее и на вкус, когда она залетит вам в рот, будто ответное оскорбление. И понюхать ее вы тоже сможете, и почувствовать при каждом шаге: еле слышное хлюпанье под камнем, и нога слегка проваливается, словно город подается под вами.
Куда мы идем?
Еще нет и двух часов дня, а в каждом окне — по зажженной свече, и свет словно бы сделан из того же непонятного вещества, что воздух, вода и земля, и хотя глаза у вас и открыты, вас не покидает странное чувство, будто вы идете с опущенными веками.
Впрочем, не о чем тревожиться, моему спутнику известна дорога. Он ориентируется не по небесным, а по человеческим телам. Прачки, колесные мастера. Старьевщик с корзиной и крюком на палке. Старухи, группками сплетничающие на порогах. Видок знает, где кого встретит еще прежде, чем увидит их. Вон он, уже зовет знакомых, самоуверенный и исполненный осознания собственной важности, словно кучер дилижанса, въезжающего во двор гостиницы.
— Добрый день, почтенные! Чем это мы занимаемся? Ах, продаем четки!.. Эй, Жервез, черт бы тебя побрал! Ты должен мне тридцать су за того петуха. Ладно, забудем, только придержи для меня местечко на воскресный бой, договорились? И принеси такого, чтобы был боец!.. О, кого я вижу? Солнце или мадемуазель Софи? Да что там, солнце перед вами просто меркнет, провалиться мне на этом месте…
Когда он приближается к ним, меняется даже его походка. Правая нога вдруг принимается слегка волочиться, словно застеснявшийся ребенок, левая же рассекает грязевые волны, при этом его руки, огромные медвежьи лапы, шутливо хватают воздух.
— Ого, да это Тамбе! Не видал тебя с тех пор, как ты отправился на галеры. А что это за пузырьки ты тут втюхиваешь легковерным покупателям? Лекарство от всего? Тамбе, я понятия не имел, что ты такой филантроп. Послушай-ка, а есть у тебя средство, чтобы побольше стал? Моему другу, кажется, надо…
При его приближении все они замирают и стоят как столбы, с застывшими полуулыбками гостей на пикнике в Тюильри.
Поэтому, когда мы поворачиваем на Блан Манто и видим человека с мешком на плече, который не стоит, а идет нам навстречу, это вызывает у меня некоторое удивление.
— Шеф, — произносит он совершенно спокойно.
— Аллар?
Некоторое время они стоят, поглядывая друг другу через плечо, перебрасываясь малозначащими фразами, поругивая погоду. Потом Аллар, не меняя тона, говорит:
— Он там.
— Давно?
— С одиннадцати.
Видок закатывает глаза.
— Женщина тоже там?
— Все семейство.
— Давай сюда.
Аллар сбрасывает мешок с плеча. Я не успеваю произнести ни слова, как Видок сует мне мешок.
— Пожалуйста, доктор, не трясите его.
Жестом приказав мне следовать за ним, он останавливается перед витриной торговца птицей, где долго и демонстративно разглядывает нормандского гуся. Потом молча затаскивает меня в дверь соседнего здания. Дверь закрывается, он прикладывает палец к губам и указывает… наверх.
Кто же знал, что наверх означает на пять этажей? С тяжелой ношей? Когда мы добираемся до верха, я вытираю мокрый лоб мешком, а плотный живот Видока раздувается до размеров, вдвое превышающих нормальные, из-за усилий, которые он прилагает, чтобы подавить собственное учащенное дыхание. Проходит минута, живот опадает… Видок прикладывает костяшки к двери и негромко стучит три раза.
— Кто там?
— Друзья.
Из-за двери слышится возня. Потом кто-то убегает. Дверь открывает молодая — впрочем, может, и не очень — женщина, плоская, как камбала, с приплюснутым носом и юркими мышиными глазками.
— Ах! — восклицает Видок. — Красавица Жанна Виктория!
— Месье Эжен, — отвечает она голосом бесцветным, как стекло.
— Мне нужен Пулен, моя радость.
— Его, видите ли, нет дома.
— Ах. — Он быстро окидывает взглядом комнату. — В таком случае, если не возражаешь, мы обождем.