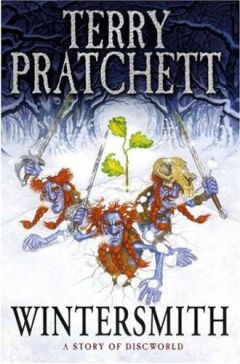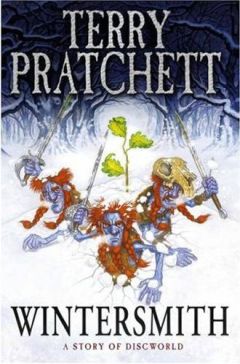– Вот сюда кладите, здесь ему будет удобнее.
Тараса Григорьевича положили на телегу к деду Макару, на свежее сено, еще крепко державшее аромат трав.
– О це гарно! – одобрил Тарас Григорьевич. – Дух-то какой! Как у нас на батькивщине. Я сам косил. Да вот откосился. Ну что, дочка, прощай, значит.
– Нет, Тарас Григорьевич, – возразила Рита. – Я с вами. Провожу до вагона, прослежу, чтобы хорошо устроили, а потом домой, вещи собирать. Я тоже с госпиталем уезжаю.
– О це гарно! – снова одобрил Тарас Григорьевич. – А мамка-то как? Отпустила?
– Мама говорит, что даже лучше: там я целее буду.
– Ну, на Урале-то и верно целее, – сказал Тарас Григорьевич. – До Урала немец никогда не дойдет.
У одной из машин показалась Таня. Она помогала раненому, который с трудом шёл, опираясь на неё.
– Таня, давай своего сюда! – крикнула Рита.
Таня подвела раненого, вместе с Ритой подсадила его на телегу.
– Ну что, девчата, едем? – спросил дед Макар.
– Вы поезжайте, а я здесь ещё помогу, – сказала Таня.
Рита махнула ей рукой, забралась на телегу. Дед Макар дернул вожжи, и Тайка двинулась в путь.
– Сонечко-то якэ гарнэ, – удивлялся Тарас Григорьевич, почти не видевший его в палате. – Ласковое.
– А не печёт? – беспокоилась Рита.
– Нет, дочка. Пускай греет.
Второй раненый молчал. Вдруг он поднял голову, прислушался.
– Гудит?
– В ушах у тебя гудит от слабости, – пошутил Тарас Григорьевич.
Раненый напружинился, готовый в любую секунду спрыгнуть с телеги, и повторил теперь уже настойчиво:
– Гудит! Немцы! Налёт!
– Ну-ка останови лошадь, отец, не слышно ничего, – попросил Тарас Григорьевич.
– Тпру, тпру! – приказал Тайке дед Макар, и она, на удивление, сразу послушалась. Тревожно задвигала ушами, забила хвостом. Теперь все четверо явственно различили тягучий, завывающий гул самолетов. До станции осталось всего несколько десятков метров. Только что обогнавшая телегу машина тоже остановилась. Впереди, где виднелся состав поезда, раздался оглушительный взрыв, и в ту же секунду Рита увидела самолеты и цепочку бомб, со свистом летящих к земле.
– Во-о-зду-у-ух! – раздался крик из машины, и раненые, кто мог, кинулись врассыпную.
Раненый, сидевший на телеге, изловчился, спрыгнул на землю, но, как видно, неудачно, ушиб больную ногу и застонал. Пробежав немного, он споткнулся и упал. Рита кинулась его поднимать. Неподалеку рванула бомба.
– Ложись! – крикнул раненый и прижался к земле.
Рита прильнула к горячей дороге, обмирая от страха – это была первая бомбёжка в их городе.
– Ползи сюда, ползи сюда! – крикнул ей из-под телеги дед Макар.
Рита подняла голову и… увидела лицо Тараса Григорьевича, оставшегося в телеге, до странности напряжённое, как будто чем-то сильно удивлённое. Тарас Григорьевич приподнялся, опираясь руками о дно телеги, словно чего-то ждал. «Ведь он не может слезть!» – обожгло Риту. Она вскочила, кинулась к нему:
– Тарас Григорьевич! Я сейчас!
Что она хотела сделать? Одна? Он не успел ответить, как где-то неподалёку разорвалась ещё одна бомба, но Рита была уже в телеге.
– Ложись! – скомандовал ей Тарас Григорьевич, и его голос потонул в грохоте разорвавшейся почти рядом бомбы.
Рита бросилась ничком прямо на Тараса Григорьевича и замерла.
– Лежи, лежи, дочка, не вставай, пока не улетит, – шептал Тарас Григорьевич. – Лишь бы не прямое попадание. Глядишь, и уцелеем.
Рита не отвечала. Тарасу Григорьевичу мешали дышать её волосы, рассыпавшиеся по его лицу, но он боялся потревожить девушку и терпел. Последние взрывы прозвучали уже отдалённо, а вслед за этим Тарас Григорьевич услышал удалявшийся гул самолетов. Налёт кончился так же внезапно, как и начался.
– Ну, дочка, всё, пронесло, кажись. Вставай, улетели.
Рита молчала и не двигалась.
– Ты что, дочка? – с тревогой спросил Тарас Григорьевич. – Ты чего так напужалася? – И тут только Тарас Григорьевич сообразил, что не чувствует её дыхания.
– Ты что, дочка?! – испуганно закричал он и попытался приподнять ёе. – Ты что?!
Раненый, лежавший на траве сбоку дороги, прихромал к телеге, услышав крик Тараса Григорьевича. Вылез из своего убежища дед Макар. Вдвоём они перевернули Риту вверх лицом. Девушка смотрела в небо ясными голубыми глазами, и в них не было ни страха, ни сожаления, ни упрека – в них не было ничего, что так свойственно глазам живого человека.
– Она, кажется… – сказал раненый и не договорил, увидев страшное лицо Тараса Григорьевича, объятое ужасом и состраданием одновременно.
Дед Макар глянул на Риту, печально покачал головой:
– И-и-э-эх!
– Меня прикрыла… Меня прикрыла… меня прикрыла… – монотонно повторял потрясенный Тарас Григорьевич. – Зачем? Зачем? Кому я нужен? Обрубок… А ей бы только жить. Меня прикрыла… Зачем?
Потом он вдруг спохватился:
– Может, ранена? Спасти можно? Гони, дед, в госпиталь! Меня снимите и гони!
– Поздно, – покачал головой раненый, рассматривая кровавые пятна на белом халате – следы двух осколков. – Красивая была. Вот ведь как…
– Гони, дед, гони! – настаивал Тарас Григорьевич.
К машине, стоявшей впереди, сходились раненые.
– Эй, люди! – окликнул их дед Макар. – Помогите!
Трое подошли, увидели Риту. Молча покачали головами.
– Осколками её, – пояснил раненый.
– Меня прикрыла… Меня прикрыла… – уже почти бессмысленно повторял Тарас Григорьевич.
Его понесли к машине, туда же похромал раненый. Дед Макар сел в телегу. Тронул вожжи. Тайка, перепуганная бомбёжкой, послушно шла по дороге.
– Гони, гони! – кричал вслед Тарас Григорьевич, всё ещё надеявшийся на чудо.
– Чего гнать-то? – сам себе сказал дед Макар. – Теперь уж домой везти надо.
Хоронить Риту пришли все одноклассники, кто ещё не уехал. Елена Григорьевна, истаявшая за сутки чуть ли не вдвое, молча сидела у гроба, так же молча теряла сознание, а когда её приводили в чувство, опять молча и тупо смотрела на единственную дочь, не в состоянии осознать несчастье. Пётр Петрович, суровый, почерневший лицом, иногда отдавал какие-то распоряжения.
Зойка всё видела, слышала, но воспринимала так, как будто это не она стояла у гроба подруги, а кто-то другой. Лёня где-то вычитал и говорил ей, что иногда в минуты крайнего отчаяния человек видит не только всё окружающее, но и себя как бы со стороны, воспринимает реальность как нечто неправдоподобное – так проявляется способность психики защищаться от горя.
Паша и Генка расставляли венки. Их Зойка тоже не видела со дня последнего экзамена и тут даже удивилась: оказывается, всё ещё в городе, на фронт не сбежали, как постоянно грозились. Таня постриглась совсем коротко, ей это идет. «Господи, о чём это я? Рита даже теперь такая красивая в своём любимом голубом платье. Голубая бабочка… Да что это я?» Мысли путались у Зойки в голове. Таня, стоявшая рядом, осторожно тронула Зойку за руку, потом с силой сжала и горько прошептала:
– Что я буду делать на Урале одна? Только вчера утром смеялись…
Зойка ясно вспомнила слова Риты: «Мне кажется, мы уже никогда не увидимся» и прошептала:
– А она чувствовала… Надо Володе сообщить.
– Надо Лёне сообщить.
– Лёне? – переспросила Зойка.
Таня не смотрела на неё, помолчала, что-то обдумывая, а потом решительно сказала:
– Рита любила его. Его одного больше всех. Она скрывала это от тебя. Недавно только мне призналась.
– Это… Это…
Зойка хотела крикнуть: «Это неправда!» Но спазмы сжимали горло, и слова застряли. До сих пор она не хотела признаться самой себе, что догадывалась об этом. Потому что, если бы знала наверняка, не смогла бы чувствовать себя счастливой, ей мешало бы чувство вины перед подругой. Так, значит, это всё-таки правда. Голубая бабочка… Зойка считала Риту беспечной бабочкой, порхающей с цветка на цветок, а она умела любить глубоко и искренне. Безответно. Тогда, на перроне, в день расставания с Лёней, Зойка видела за кустами сирени её голубое платье, в котором Рита лежит сейчас. Она приходила, чтобы в последний раз глянуть на Лёню, тайно проститься с ним. Как же можно было это не понять, не догадаться?
Зойка чувствовала тошноту и слабость, ей казалось, что она вот-вот упадёт. «Как я могла ничего не видеть, не замечать? Вот уж верно: счастье глаза дымом застилает, делает человека слепым».
Вечером, после похорон, они вчетвером сидели у Риты на веранде. Если бы она была жива, то восторженно закричала бы:
– Ребята, смотри-и-ите, какая луна-а!
Но Рита ушла от них навсегда, а они собрались в её доме, чтобы поддержать родителей подруги и последний раз почтить память о ней воспоминаниями.
На веранду вышел Пётр Петрович и тихо проговорил:
– Сидите, сидите, ребята. Я просто постою немного с вами.
Всем хотелось говорить о Рите, но говорили мало, потому что трудно было произнести слово «была». Нелепая смерть Риты словно оборвала какие-то струны внутри у каждого. Молчаливее всех был Паша. Он, кажется, вообще не произнёс ни слова с тех пор, как Зойка увидела его здесь, во дворе, ещё днём. И вдруг Паша неожиданно обратился к отцу Риты: