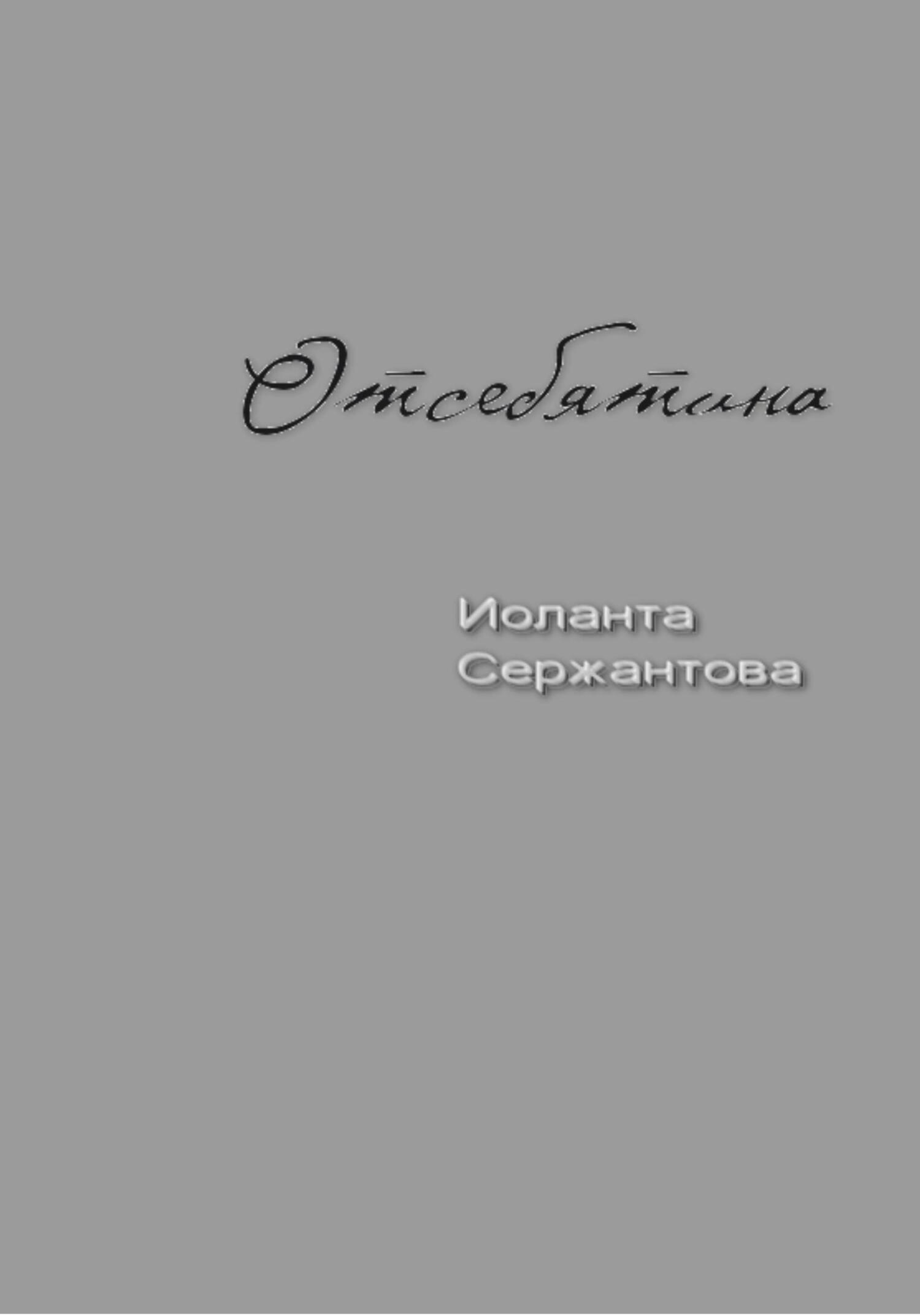меня… — Расстроилась сестрёнка. — За что ты так себя не любишь? Ты румяный, и стройный, и конечно не выглядишь на свой возраст, ну — никак!
Месяц спустя я вспоминал об этом разговоре с сестрой и едва не плакал. Однажды утром мне стало так нехорошо, что я упал прямо у порога дома. Сосед вызвал «Скорую», и теперь, заместо велосипеда, чтобы добраться из комнаты в кухню, я седлаю венский стул, ибо не решаюсь идти без поддержки. Прародитель гнутой фурнитуры 14 знал толк в своём деле, и на всём пути от кровати до плиты я не чувствовал себя смешным, но более того — почти что всадником.
В какой-то из моментов, усаживаясь перевести дух, я оглядел комнату и кажется понял, догадался, — что должен чувствовать ребёнок, который только-только учится ходить. Он думает, наверное, что ему нужно перехватиться руками за кровать, по стеночке до шкафа, немного передохнуть, чтобы осилить невысокий порожек… Бедные дети! Как им, оказывается, непросто!
Через пару дней, когда я переоценил свои силы или недооценил внезапно обосновавшуюся во мне немощь и решился идти в кухню сам по себе, оставив венского коня в стойле у изголовья, гречка, которая так аппетитно пахла, вся оказалась на полу, ну а заодно и я рядом с нею. Был бы у меня пёс, он бы помог с уборкой, а так… пришлось корячиться самому.
Как бы там ни было, мне теперь хорошо известно, что такое — впасть в детство. Это означает — сделаться беспомощным и зависимым. Только в детстве это проходит, вместе с ним самим, а в моём возрасте от этого избавляет только …небытие…
Снег и дождь шли, перебивая друг друга. Каждый норовил высказаться и стоять на своём во что бы то ни стало. Каждый считал собственную правоту единственно верной, и требовал, чтобы прочие думали также, как он.
Небо глядело вниз, впрочем, не снисходя до них, улябаясь кротко и просто. Кому, как не ему приходилось быть свидетелем многих подобных разногласий, и ведь именно в сей разноголосице заключалась прелесть бытия, о которой твердили небеса во все века. Да только… кто и когда прислушивается к очевидному?
По всё время, покуда шагали по-над лесом спорщики, в тот же самый лес направлялся и я. Моему псу полюбились прогулки среди писанных самой природой декораций и оврагов, драпированных марлей снега. Так отчего бы я отказал ему в сей малости? Удовольствий, что мы умеем распознать, в жизни не великое множество, а уж на недлинном собачьем веку их и того меньше.
Не более, чем в пяти саженях от кромки леса, молодой порослью трепетало на виду семейство косуль. С их, словно вросших в сугробы крутобоких тел, будто бы с горок, скатывался снег и роняли себя в снег ручьи воды.
Мой пёс был широк, но невысок, в отличие от меня он смотрел не по сторонам, а себе под ноги, так что ему было не разглядеть лесных козочек, я же стоял, любовался ими, сердечно смеясь, так милы и ладны были они.
Косули, нисколько не торопясь, даже слегка кокетничая, ы удалились в чащу леса. Пёс, продолжая распахивать носом сугроб междупутья, двинулся по тропинке, я, как верный оруженосец, следовал за ним, и тут… Из-за орешника показалась стройная ножка юной косули. Замешкавшись, она отстала от своих, и теперь не решалась выдать себя, но лишь следила с тоской за тем, как сливаясь с изгибами ветвей, тают вдали тени её родных.
Несмотря на глухоту, у моего пса имелся славный нюх, и устремившись к малышке, он не нарочно мог напугать её, из-за чего бедняжка потеряла бы из виду свою маму и заблудилась.
Я присел к собаке, обнял за шею, и развернул в сторону дома:
— Пойдём-ка, мой милый, ты я вижу замёрз. — Сказал я, по обыкновению, больше себе, чем ему. Пёс, что уже уловил запах страха юной косули, был до неприличия добр, и простив мне невольное лукавство, вильнул хвостом, да послушно пошёл рядом, нарочно задевая мою ногу своей., а за нашими спинами малышка косуля мчалась во весь дух, догоняя своих.
К тому времени, снег с дождём то ли вовсе рассорились, то ли, напротив, договорились, но их обоих не было видно. В небе царила одна луна. Она прятала довольную улыбку за веером прозрачной ткани тумана, растянутом пятернёй кроны дуба, ровно на китовом усе. Так и мы, скрываем добрые дела от себя самих. А малы они или велики, — какая, собственно разница? Никакой!
Бесконечная ажурная кисея неба медленно сползает наземь.
Сне-го-пад…
Косуля, откинув слегка его плотный полог, высовывается, словно в окошко, подогнув уголок занавески, вглядывается в глаза пристально, взыскует правды, думает громко:
— Ты чего тут?
— А нечто неможно? — Дерзко ответствую я.
— Смотря чего для. — Слегка витиевато упорствует косуля.
— Ды-к… Пройтись. Побеспокою?
— Ещё как! Разве больше негде, кроме, как здесь?!
— Так лес же! Воздух! Грибы!
— Грибы, так-то, не для вас посажены, а воздух… — Негодует косуля. — Тут живут, вообще-то, если ты не знал. Любят, ссорятся, дети растут, старики горбятся, всё, как у вас, у людей. Мы ж к вам в дома не стучимся, по кухням в грязных сапогах не топчемся, угощений не требуем.
— Вообще-то, случается… — Смущённо возражаю я.
— Ты про птиц в зиму или про мышей?
— Ну…. — Я задумываюсь в нерешительности, но косуля торопится расставить всё по местам:
— Не станешь прикармливать синиц, они найдут себе, где столоваться, но тебе ж самому то по нраву, когда зависимы от тебя те вольные птахи, и что, сними ты их с довольствия, погибнут. А касаемо мышей… тут ты, братец, сам виноват. Не зевай, следи за домом и порядком в нём, и будет тебе заместо мышиного проса — чистота и паутина по углам.
В изумлении глядел я на косулю, не понимая, в самом ли деле тот разговор или почудился.
Фыркнув недовольно, так что просыпался чуб снега со лба, лесная козочка не спеша, с достоинством развернулась, дозволила полюбоваться отороченными белым мехом шароварами, и прыгнула в самую гущу снегопада, где потерялась, совершенно слившись с ним. Ещё одно совершенное творение природы. Так радостно глядеть на любое из них. До слёз.
Пятак луны плавит закатное небо, брызжет каплями звёзд. Прислушиваясь ко влажному хрусту, что идёт от земли, луна понимает его причину, но сочиняет себе иную. Не из-за привычки говорить неправду, но