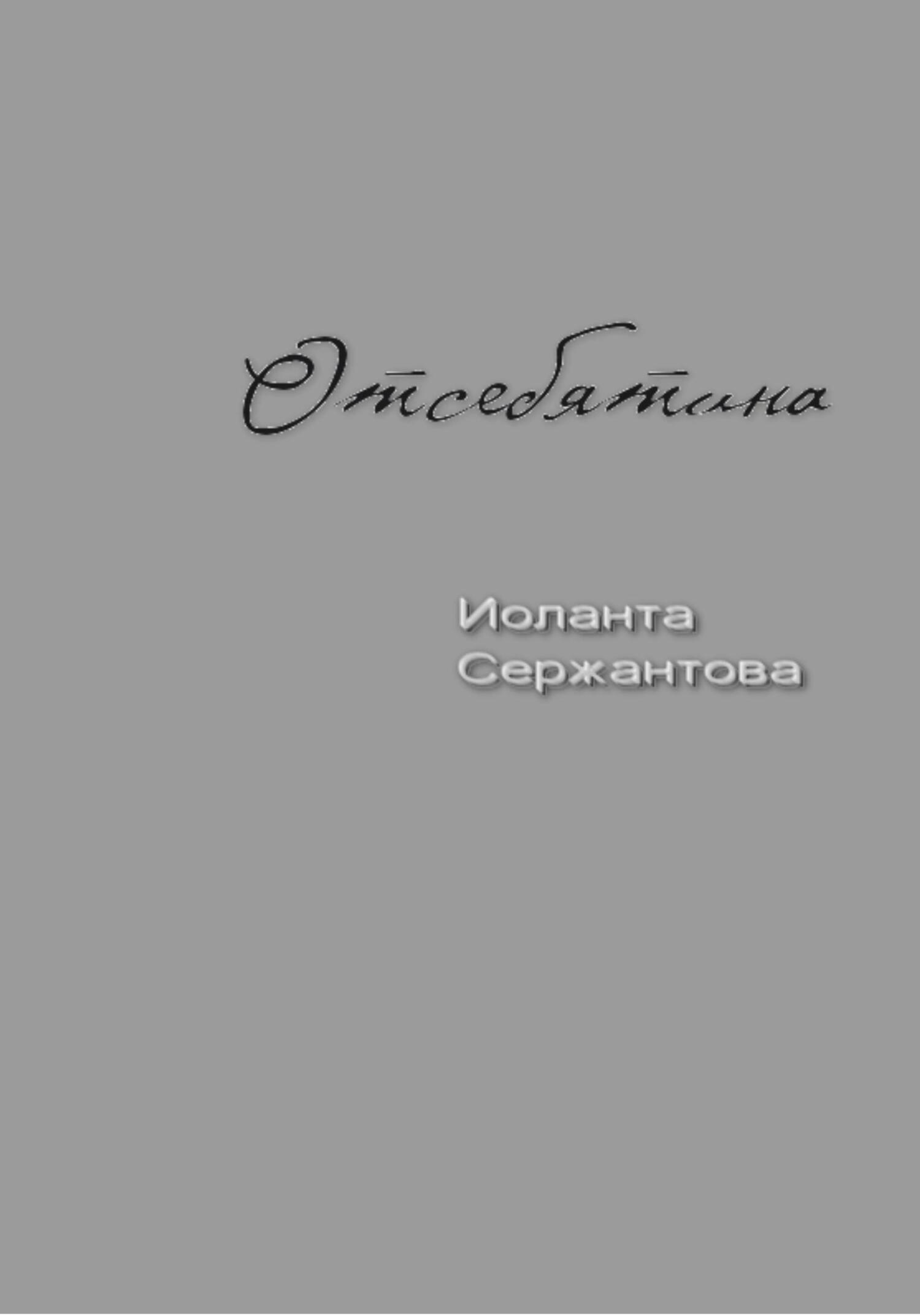Не для себя хотела тех вишен, — для сына, дочери, для внука. Опять же — через улицу поселилась молодая семья из Снежного 15, у них покуда пусто, так и их угостить. Всё ж своё, своим.
— Зато и жуков, как не бывало! — Перебивает её горькие думы соседка.
— Совсем?
— Не, ну как… Руками-то мы собирали каждый день, то правда, но не травили, как в прошлые годы.
— Яду пожалели? А чего?
— Не так, чтобы. Всё ж себе на стол, да и земле, матушке, надо от отравы отдохнуть маленько.
— Оно, может и надобно, но, дорогая моя, тут уж либо урожай и дом полная чаша, либо целый огород сытых жуков.
— Так мы их пивом поили, и пьяными после гребли. Промежду грядок в чаши разливали. — Едва ли не в полной, дробной тишине вагона звучит её ответ.
Улыбки расправляют морщины усталых пассажиров, а супруг рассказчицы, тот и вовсе хохочет, понарошку утирая усы от пенного, выпитого некогда за компанию с жуками. Хорошее было лето, жаль только, что скоро прошло.
Лес чудился не чем иным, как коралловым рифом на морском дне. Облепивший его снег был назойлив без меры, навязывая свою волю, он принуждал деревья кланяться низко, так близко к подошедшей рыхлыми сугробами опаре земли, что уж и не бывает ближе. Только если в ней самой. С кустами снег не церемонился, с травою был и вовсе беспощаден. От неё не оставил он не то следов, но даже напоминания. Ещё вчера самые стойкие из трав держались на виду, в снегу по пояс, а то и по щиколотку, или тянулись к низкому от облаков небу на цыпочках пожухлых, изрезанных настом листьев, втянув худые животы стеблей. Седые головы трав кивали радушно и ветру, и проходящим мимо, но нынче… Сломлены, раздавлены, не сыскать уж их, поди…
Под снегом оказались погребены и звериные тропы, чья очевидность вселяла в лес надежду, наделяла радостью, служили свидетельством его обитаемости, делала уютным, наполненным жизнью, что вызывает к себе излишний, но неподдельный интерес и вредное, подчас, сострадание:
— Как они там, бедные, и в дождь и в стужу? Как же они там одни, без нас…
— Да уж ничего, вашими молитвами. — Вздыхал, слегка сутулясь, дуб, и сокрушённо качая головой.
То неспроста. Он хорошо помнил несчастный день, когда олениха, покормив своё новорождённое дитя, оставила его на попечении дуба, в траве рядом с ним. Дубок был тогда молод и гибок, землю мог разглядеть близко, намного ближе, чем теперь. И принесла же в ту пору нелёгкая в дубраву людей. Как увидали они оленёнка, запричитали, заохали, мол, бросила нерадивая мать своё дитятко на произвол судьбы, на съедение волкам. Ну и завернули малыша в рубаху, да унесли. Уж как не тянул дубок свои ветки к людям, как не ронял сучки со щепочками им под ноги, как не молил оставить в покое беззащитное дитя, не поняли они его стенаний, порешили — ветер гонит непогоду, нужно спешить-поспешать, дитя утешать. Да всё по-своему, по-людски.
Видел дубок, как после пришла олениха-мать к опустевшей колыбели травы. Слышал рыдания её, видел слёзы горючие, что текли из карих её глаз.
Говорят, отнял-таки лесник того оленёнка у людей непутёвых-неумных, да только не смог он выпытать — куда малыша возвернуть. Ибо не каждому человеку лес глаза открывает, кажет пути свои, да перепутки. Кого за руку ведёт, а кого и кругами кружит подле самого дома.
Сказка сказке рознь. Этой не не достало доброго конца. Устроил лесник оленёнка в густой траве, подальше от дороги, с малой надеждой, что приведёт лес мать-олениху, куда надо. А сам махнул рукой, да ушёл к себе в сторожку с тяжёлым сердцем и надорванной болью душой.
…Снег. Сыплет и сыплет без конца. Коли по-людски, так выше меры, а по-своему, так и в самый раз. Не зря, видать, старается. Прячет подальше от глаз людских, — что там делается в лесу-то, как живётся, без пригляду человечьего, по собственной, значит, лесной воле.
Я шёл по улице, и казалось, словно снег, изрытый копытцами дождя, весь в испарине, словно бы нездоров. По нему хотелось провести рукой, утолив его печаль и собственную потребность сострадать кому-либо, да остановить-таки, наконец, его рыдания.
К счастью, вполне осознавая губительность прикосновений, удавалось сдержать свои порывы и отступить с покаянием о собственной несостоявшейся оплошности, в надежде, что ненадолго заглянет ветер, пошепчет над ушком ласково, подует тихонько, притушив боль, а заодно и само таяние, исчезновение снега.
Оно бы так и случилось в самом деле, коли б оттепель вновь и по обыкновению своему истолковала неверно собственное предназначение, и испортив дело, не принялась шагать в растоптанных, тёплых домашних туфлях по податливым, мягким, будто бы загодя изжёванным тропинкам.
Голубоватый снежный сок брызгал на стороны, смешивался со слякотью, заставляя прохожих брезгливо морщится. Ибо та ещё докука — оттирать полы плаща с сапогами от присохшей грязи.
И ведь если бы только ущерб одежде, это ещё пол беда, так ещё простуда. Липнет она в эдакую погоду, не отпускает, тянет за рукава, пачкая их заодно с прочим, жарко дышит в лицо, брызгая слюной… А отстранишься слегка, потянешься утереться — сочтёт невежей. Вот и терпишь, да после, отойдя за угол дома, принимаешься доставать платок, роняешь его от поспешности и неловкости в самую лужу…
Домой возвращаешься в нечистой одежде, с головною болью и першением в горле. Так что с чистою совестью можешь позабыть про всё, чем намеревался располагать наперёд, как минимум, на неделю, ибо с этой самой минуты тебя ожидает много тёплого питья, невовремя сон, больше похожий на забытьё, в котором ты решаешься-таки преградить путь оттепели однажды, и кидаешься в снег, защищая его…
Падая, ты осознаёшь, что сам слишком горяч и кричишь от непоправимости происходящего, а просыпаешься мокрым, совершенно, с головы до пят. Тебя уверяют, что это хорошо, и переменяя на тебе бельё заодно с постелью, говорят, что вот именно теперь всё наладится и ты непременно пойдёшь на поправку. А ты вдруг отчего-то не соглашаешься, сердишься и даже плачешь.
Им, прочим, не понять, — из-за чего. Ты тщишься растолковать, что тебе жаль испорченного снега, но выходит бессвязно, и близкие списывают твои слёзы на слабость от болезни, и говорят с тобой, будто бы с ребёнком или того хуже — умалишённым. Ты злишься ещё пуще, посылаешь всех из комнаты прочь и собираешься больше никогда не спать,