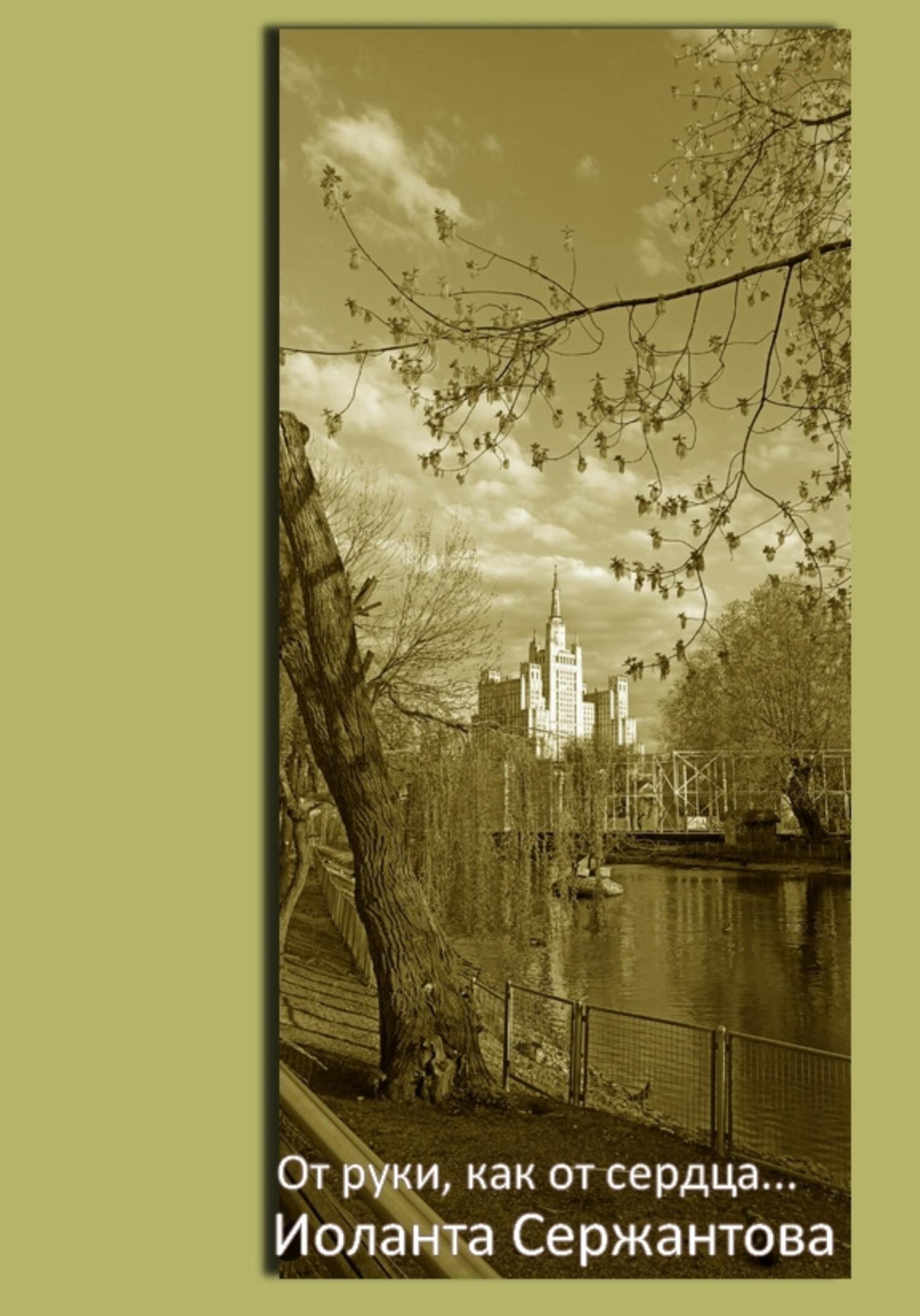даже по неглубокому снегу без лыж было тяжело, но мне было всё равно. Да и вырос я уже из них! Так отцу и скажу…
– Да вы пейте чай, пейте, остынет.
– Не хочется.
– Не хочется ему… А надо!
– Ничего мне не надо. Вы меня простите, но я, пожалуй, пойду.
– И куда это?
– Так… Никуда. Поброжу.
– Вы уже, милейший, год, как бродите. Много оно вам помогло?! Вы глядите, какой вы сделались скучный, унылый. Подле вас, вон, сливки киснут.
– Ничего с ними не сделается, сметаной будут…
– Да с ними-то ничего, а вот с вами… Вам уже, похоже, доктора надо.
– Никого мне не надо. Отцу вон уже позвали… И что вышло?!
– Ах, оставьте! Все там будем! Забудьте!
– А что, так можно?! – не думать о прошлом, коли оно само напоминает об себе ежечасно. Высвободились некогда занятые отцом черты, обосновались во мне, – надолго, нет ли, не нам про то знать, – и теперь я ловлю себя на том, что слышу звуки его голоса, интонации, но уже из своих уст. Словечки, которые не произносил никогда, принадлежащие не мне ужимки, жесты. Знакомые, виденные не раз, отцовские… теперь они мои…
– Так вы их просто повторяете, батенька. Машинально! Бессознательно!
– Нет, это не то… Совсем. Изменилось и моё отношение…
– К чему?
– Да ко всему! Особенно к тому, к тем, чего и кого не замечал раньше. И знаете, кажется, теперь я смотрю на мир глазами отца.
– И как это?
– Странно, но больше страшно. Ибо мой собственный взгляд в будущее не достанется никому.
– Отчего же?
– На то имеются свои причины.
– Друг мой, я хорошо понимаю вашу тоску, но что ж поделать. Конечно, мы можем поплакать вместе, но разве ваш папенька был бы рад тому? К счастью, я был с ним знаком и хорошо знаю, чего желал он от жизни, чего искал.
– И чего же?
– Интереса! И вот ещё, к примеру, чай на столе для того, чтобы пить, а жизнь…
– … чтобы жить?!
– Именно! Всё просто!
– «Проще пареной репы…», как говаривал мой отец.
– Ну, вот видите!… Давайте-ка ещё чаю, да погорячей, разогнать дурную кровь.
Пока мне меняли остывший чай на горячий, отрезали от пирога, придвигали мёд и подкладывали разных варений, я думал над словами хозяина дома и, честное слово, они странным образом утвердили отчасти мой дух. Ведь, коли бы не надежды моего отца на то, что я отыщу свой интерес в этой жизни, зачем бы я ему сдался тогда. Жил бы бобылём, и все дела.
Солнце, едва восстало ото сна, а уже при деле. Варит шов на стыке дня и ночи, с востока на запад, из-за чего брызжет расплавленными каплями, да не абы куда, а на другие две стороны света, дабы не оставить которую безо внимания, не обидеть тем, не обойти ненароком округ, не коснувшись хотя взглядом, не удостоив кивком.
Птицы в сей час, набравши порой предрассветного затишья побольше воздуху, как храбрости, сразу же принялись плести паутину из звуков, мешаясь тем пауку. Видимо-невидимо всяких разных струн с нитями, видимыми и невидимыми.
Выйдешь, бывало, зимою на крыльцо, глохнешь от тишины, ухватишься за шёлковый конец единого её звона, потянешь к себе бережно, дабы не оборвался, не оставил сей трепет один на один с мыслями, с тревогою обо всём на свете, о своём в нём участии, как об участи и счастии.
Ну, а весной – там иная песнь, тесно в воздухе от птичьих закликух, не протолкнуться уху. Не то других – себя не слышишь, шумнёт кто – не разберёшь: кой отсель, а который издалёка.
А под весенний этот шумок…
Дубонос подбирает с земли семена очищенных половодьем и дождями ягод.
Дрозд, овсянка и малиновка, нарочито не замечая соседства, селятся на ветвях одного дерева, друг над другом, словно на этажах. А соловейка, как водится, занятый больше пением, нежели обустройством гнезда, стелится прямо так, в траве неподалёку.
Будто знает соловей, что в этом мире всё ненадёжно, всё преходяще, временно, и не к чему чересчур стараться над вещественным, ежели можно просто воспеть эту жизнь и пить её, прикрыв глаза, маленькими глотками, до самого дна.
– Раздели со мной радость! – Просит один, а другой сетует на то, что исчерпан лимит его веселий, и не ждёт его впереди ничего:
– Всякое уже было, ото всего отведано…
– И ведомо всё?
– Того, что на мою долю положено…
– Да откуда ты можешь знать?!
– Мне и не надо, чувствую. Если б не жена, лёг бы, и … пропади оно всё пропадом, а иногда и её не жаль
– Неужто ей лучше без тебя будет?
– Ну уж не хуже. Молодая ещё, найдёт себе кого покрепче, поживёт.
– Себялюбец ты. Нехорошо это. Только об себе и думаешь.
– Как же?! Я от себя, от забот хочу освободить!
– А если она тебя любит?! Две головешки-то рядом дольше горят!
Как же она будет после?!
– Да не верю я в бабскую любовь. У них всё от довольства, от сытости. Покуда ты добытчик – будет тебе и привет, и ласка, а коли нет, со свету сживёт.
– Хорошего ж ты мнения о женском сословии. С таким- то устоем тебе бобылём быть бестяглым, а не женатым.
–
Может, и так, да теперь уж не исправишь. Ты-то вот доволен своей? Хозяйка-то она у тебя не ахти какая, да и с лица не больно хороша.
– Так то кому как. Мне нравится.
– Ну, оно понятно, свыкся, всё одно – какова.
– Э… не скажи…
Прошло совсем немного времени, и тот, который собирался пропасть, хоронил того, что отговаривал его, взывая к благоразумию и любви к ближнему. Разглядывая за поминальным столом вдову новопреставленного, он заметил, что та не притронулась ни к кутье, не к блинам, ни ко клюквенному киселю, а только прижимала к губам недоеденную супругом горбушку, и целовала оставшиеся на ней следы от его зубов.
Вот тебе и бабская любовь. Видать, бывает она, прав оказался дружок-то, ох как прав…
Сумерки в рамке чёрных тонких лент туч над горизонтом. Словно застыли в одной поре. День скорбит об своём скором уходе. А округа, понимая, что это ещё не конец, дышит туманом, наполняя русла