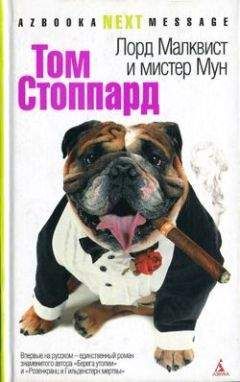Татьяна Андреевна Богатырева
День матери
Повести
«Должно быть, был момент тогда, в самом начале, когда мы могли сказать – нет.
Но мы как-то его упустили».
Том Стоппард. «Розенкранц и Гильденсгерн мертвы»
* * *
Когда Гарри Поттеру исполнилось 11 лет, он выехал из кладовки, в которой жил. Мне исполнилось 12, я решил в кладовку въехать. С Гарри Поттером все понятно – он получил письмо из Хогвартса и уехал навстречу приключениям. Я письма из Хогвартса не получил. Вместо письма у меня была тетрадь, в которой я нарисовал план своей будущей комнаты. Мама заявила мне, что только некрепкий умом человек ходит в школу в свой день рождения. День рождения – это такой персональный выходной. Поэтому, вместо того чтобы идти в школу, я все утро рисовал план комнаты, которую думал создать из кладовки.
Настроение у меня решительное. Я решительно дергаю в сторону раздвижную дверцу, ведущую в кладовку. Ничего не происходит. Дергаю снова. Дверца отодвигается с третьего раза. Я сразу понимаю, что никакой комнаты у меня не будет. Потому что в кладовке вещи. Вещи есть во всех кладовках, но наша кладовка целиком состоит из одного плотно утрамбованного ряда вещей. Я даже не могу туда войти – так и стою между коридором и кладовкой на узком порожке. Пизанские башни обувных коробок. Старые куртки, пальто и плащи-дождевики. Лыжи. Полтора велосипеда. Мамины вещи. Папины вещи. Одна треть кладовки занята ящиками книг моего отца. Книга одна и та же, просто экземпляров много. Ухитряюсь вытянуть одну книгу из коробки.
С фотографии на обложке на меня смотрит симпатичный человек сорока лет; взгляд у него лукавый, нос с горбинкой. У нас с отцом одинаковые прически – вернее, одинаковый вихор на голове. Втискиваю книгу обратно, ближайшая башня из обувных коробок начинает угрожающе покачиваться. Поспешно покидаю кладовку, пока башня не надумала обрушиться.
Однажды мама решила выкинуть папины вещи. Она собрала их в огромные мусорные пакеты и отнесла на помойку во дворе. Какое-то время мы с ней смотрели на помойку из окна, потом она принесла их обратно, запихала в кладовку и сказала, что не будет со мной это обсуждать. Потом мама ходила за мной по квартире и все повторяла, что не будет со мной это обсуждать, пока мы наконец это не обсудили.
Возвращаюсь в нашу комнату.
– Ага, – говорит мама, – время получать подарки.
О своем паломничестве в кладовку я ей ничего не сказал. Все равно затея провалилась.
Мама вручает мне свитер. Он упакован в подарочную бумагу, но я все равно уже знаю, что это свитер. Мама всегда дарит мне свитера собственного производства. Так же мама вяжет свитера и себе. Они выходят у нее большие, бесформенные и яркие, похожие на шерстяные спальные мешки с дырками для рук и ног. Но все же свитера у мамы выходят немного лучше, чем кофты, потому что в случае с кофтами ей никогда не удается ровно пришить пуговицы. Выкройки она не признает. Однажды, попытавшись сделать капюшон, мама связала что-то вроде кармашка для горба.
Я благодарю маму за свитер. Надеваю его. Воротник, даже если его отвернуть, оканчивается где-то на уровне ушей – вампиров можно больше не бояться. Но я все равно снова сердечно благодарю маму. Мама благодарит меня за то, что я у нее есть. Так мы некоторое время друг друга благодарим, проникаясь моментом все больше и больше. В конце концов доходим до воспоминаний о моем появлении на свет. Я знаю эту историю наизусть: так часто мама мне ее пересказывает. История больше напоминает детский ужастик.
Получился я случайно. Мама никак не должна была забеременеть, но почему-то забеременела.
Мама говорит, ей было двадцать лет, она училась в институте, жила с бабушкой, которая болела и очень не любила маминого ухажера – папу…
– И самое логичное было бы сделать аборт, – продолжаю я.
– И тогда я решила сделать аборт, – кивает мама.
Но папа решил, что аборт – это убийство, и стал убеждать маму не брать грех на душу. Мама согласилась. Прошло какое-то время, и папа решил, что жениться на маме не хочет, а ребенок – это мамины проблемы, но уж никак не его. Он сказал об этом маме, они поспорили, потом поссорились, потом не разговаривали, и мама пришла к выводу, что все-таки надо делать аборт. Но папа снова передумал.
– Папа пришел к тебе и со слезами на глазах уговаривал оставить ребенка, – говорю я.
Потом они снова ссорились и никак не могли прийти к общему знаменателю. Потом мама и папа сошлись на мысли, что нерешение проблемы, в сущности, тоже ее решение, и какое-то время не думали об аборте. Потом снова поссорились. А потом уже было поздно делать аборт. Так появился я. Мама выбрала для меня самое красивое, на ее взгляд, имя с характером и историей.
– Меня назвали Иннокентием, – говорю я, и мама с гордостью кивает.
Свитер чесучий, особенно в районе горла.
– Мне надо собраться, – говорит мама, и я удаляюсь из комнаты.
Иду на кухню. Достаю из холодильника нашу тарелку с гренками, чтобы разогреть, ставлю на стол. Входит Лариса Дмитриевна, она снимает у нас комнату, – старуха довольно странная, имеющая привычку есть наши продукты. Мне жалко гренок, поэтому, здороваясь с ней, я стараюсь прикрыть их своим телом.
Лариса Дмитриевна настроена воинственно. Ей хочется кого-нибудь обругать, у нее раздуваются ноздри и чуть подрагивает нижняя губа. От этого кажется, что она очень голодна и готова съесть все, что увидит. Я волнуюсь за гренки. Лариса Дмитриевна надевает очки с привязанной к дужкам веревочкой, чтобы носить их на груди, как ожерелье, и не терять, и начинает издалека. Сначала она ругает Эдика, еще одного нашего жильца. Эдик – наркоман. Лариса Дмитриевна, правда, не вполне понимает, что он наркоман, поэтому ругает Эдика за то, что он бездельник.
Наркотики занимают у Эдика все время, и у него совершенно нет возможности совмещать их с работой, но я не решаюсь объяснить это Ларисе Дмитриевне.
Не переставая ругаться, она берет тарелку и ножик с вилкой. Добравшись до мамы, она ругает ее за то, что мама поздно встает, толком нигде не работает (тут Лариса Дмитриевна снова вспоминает об Эдике и немного отвлекается), не занимается моим воспитанием и состоит в непонятных отношениях с моим папой, который то живет тут, то не живет, и это, конечно, тоже безобразие.
Лариса Дмитриевна уже помыла руки и сидит за столом. Дойдя наконец до меня и обругав за неопрятный вид вкупе с тупостью и потерянностью молодого поколения вообще, Лариса Дмитриевна умолкает и смотрит укоризненно: мол, я собираюсь обедать, не смотри мне в рот. Я в последний раз окидываю взглядом гренки и желаю Ларисе Дмитриевне приятного аппетита.
В коридоре меня ловит Эдик. Он интересуется, где сейчас находится Лариса Дмитриевна, выясняет, что она на кухне, и вздыхает – ему бы тоже надо наведаться на кухню, но пока там Лариса Дмитриевна, ему этого никак не сделать. Эдик похож на очень худого и длинного дядюшку Ау. Раз не получилось с походом на кухню, Эдик пробует одолжить у нас с мамой денег. Я категорически ему отказываю, проявляя всю твердость, на какую способен. Поясняю Эдику, что он и так уже не платит нам за свою комнату, причем довольно долго.
На самом деле не платит он легально, то есть мама в курсе и не против. Дело в том, что Эдик несколько лет подряд непрерывно занимается мучительным духовным поиском и параллельно – неопределенным видом искусства. Мама, видя в Эдике родственную душу, искренне его жалеет, считая, что два работника творческого труда, живущие под одной крышей, должны непременно помогать друг другу. Услышав вежливый, но твердый отказ, Эдик на меня обижается. Он говорит, что во мне очень много негативной энергии, и удаляется в свою комнату. Я стучу в нашу комнату; стучу, потому что вдруг мама еще одевается. Оказывается, что в одевании она совершенно не продвинулась, – она просто вывалила большую часть своей одежды из шкафа на кровать и частично на пол и стоит теперь перед этой кучей свитеров, платков, напоминающих юбки, и юбок, напоминающих платки, с крайне недовольным видом.
– Кеша, – говорит мама, – никуда я не пойду.
Она поворачивает голову влево, наклоняет ее и тянет пальцами за образовавшийся маленький второй подбородок.
– Я урод, – говорит мама.
Я уверяю маму, что это неправда. Это действительно неправда. У мамы очень доброе лицо, она стройная и высокая, и еще у нее очень красивые рыжие волосы; они вьются и занимают много пространства – целая копна.
Мама рассеянно кивает, она меня уже не слушает и озабочена чем-то другим.