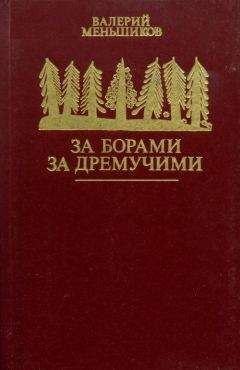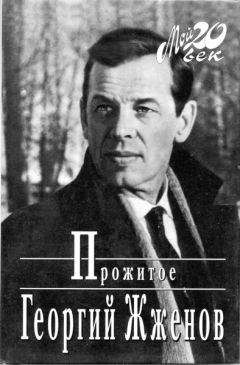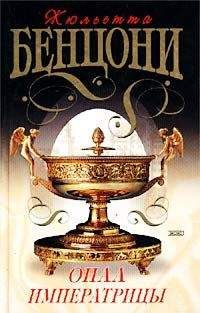Улочка по эту сторону реки и вовсе на проулок похожа. Не избита колесами до песка, густая трава-муравка, которую у нас зовут птичьей гречишкой, подернула ее от избы до избы. И снова те же безжизненные окна — за стеклами, за геранью не угадаешь человеческого лица. Повымерли они все тут, что ли? Не поймешь. Даже не сбрехнет в подворотне какая-нибудь собачонка.
А я беспокоюсь — где же озеро? Поселок позади остался, слева бор поджимает луговину. Уж не приврал ли про озеро Валька? Нет, не приврал… Явилась нам, поднялась из зеленей обдерненная травяными пластами насыпь. Потому и не приметили ее сразу. Высокие рукотворные валы уходили влево и вправо, а между ними чернел обомшелый сруб, в котором вместо окон были вставлены деревянные щиты-затворы. Через верхнюю кромку плах вода сбегала в темноликую заводь. Она-то и поит, не дает усохнуть ручью, давшему жизнь нашему Ниапу.
Моментом одолели мы довольно крутой подъем и взлетели на широкую насыпь. И открылась нашим глазам такая неповторимая картина, что мы враз онемели, забыв обо всем.
Будто накрыл кто сплошным оконным стеклом луговую чашу, столь огромную, что лес у дальнего закрайка кажется курчавинками зеленого борового моха. А над этим игрушечным лесом на глазах вырастает золотистая шляпа подсолнуха. И с каждой секундой обновляется все вокруг. Зоревая полоска медленно катится от дальних берегов к плотнике, и озерная ширь теряет свою зеркальную голубизну, какие-то невидимые светильники загораются в придонье, и вот уже все озеро полыхает малиновым пламенем, поджигая окрестные леса, камышовую опояску, плотнику и насыпь. И вся эта красота по частицам входит в меня, и сам я растворяюсь в ней без остатка. И нет уже ничего: ни далеко гремящей войны, ни пустоты в желудке… Забылись, закатились куда-то мои горести и печали. Есть только мои друзья и окружающий нас мир. Вот это, заполненное рябиновым настоем озеро, позеленелая плотника с шуршащей по шлюзам водой, притихший от общего горя поселок и народившаяся у заводи река…
И все-таки где-то идет война. И живет это во мне тревожной натянутой струной постоянно и может забыться лишь вот в такие мгновения. И Валькин, и, возможно, Рудькин отец-безвестник уже навсегда прилегли где-то в далеких отсюда полях, и мой отец окропил своей кровью землю под Сталинградом за эту вот красоту, чтобы жила она всегда рядом с нами, жила вечно. И потому все мы так — и детвора, и взрослые — верим в неизбежную Победу, потому что нельзя отнять у нас привычный окружающий мир и передать его в чьи-то ненасытные руки.
Стоим мы втроем на ветродуйном гребне охраняющего воду земляного вала, каждый по-своему меченный ненавистной войной, а потому дружба наша крепкой спайки и ее не разольет никакая вода. Впереди у нас целый день. Надергаем из озера чебачков, окунишек и карасей. А если повезет, то здесь, в глубинной круговерти у тесовых шлюзов, Валька выведет и подсечет на самодельную жерлицу увесистую щуку. Иначе зачем мы отмерили столько верст, ввели в обман родню. И Валька будто угадывает мои мысли:
— Мелочь поделим поровну. Может, и поджарим что на костерке к обеду. Ну а щуку… Щуку сольцой приправим и на солнышко. Пускай Валеркин батяня набирает здоровья и бьет из своей снайперки фрицев.
И я верю в его фарт, в нашу удачливость. Потому что и для Вальки, и для меня с Рудькой будущая посылка в Саратов — тоненькая ниточка к нашему недавнему прошлому, к незабываемым дням, когда беззаботно светило солнце и отцовские руки, их голоса всегда были с нами…
Прилегший на берегу Ниапа огромный зверь ни на минутку не стихает. Вздыхает, ворочается, ворчит, грозится своими огненными глазищами. Мальцом я пугался этого чудища, затаившегося за высоким забором, а потом привязался к нему всем сердцем, как к самому хорошему другу. Да и как было не полюбить его — наш стекольный заводик, который связывал всех в поселке соучастием в общей работе, поил и кормил каждую семью, а нам, пацанам, дарил неповторимые минуты счастья. Счастья, что рождалось от мимолетного общения с трудом настоящих кудесников — стеклодувов, с их поражающей смекалкой — удивительной чертой в характере русского мастерового человека, который ищет чудеса там, где вроде им и быть не пристало, и вносит в любую, даже самую грязную и монотонную работу дыхание светлого праздника.
Не каждый, к примеру, в мастерстве мог с Иваном Соловьевым сравниться. Настольные лампы, кринки, кувшины, вазочки выходили из-под его рук на загляденье, излучали столько весенних красок, что хотелось ласкать их руками, будто ранние боровые первоцветы.
Мужиков — настоящих мастеровых — всех без жалости увела за собой война, осиротила завод, оставив его немногим старикам, женщинам да глазастым подросткам. Последним я завидую: как же, рабочий люд, в школу ходить не надо, да и хлебная пайка потяжелей иждивенческого кусочка.
Главная примета завода — высоченная каменная труба, над которой день и ночь не тает дым. Глубоко под ней, в топке, как тонкие соломины пожирает огонь березовое долготье, обжигающим потоком воздух идет к печи, плавит песок и разные там добавки в жидкое стекло. Труба не раз приходила нам на помощь во время лесных скитаний. Случалось, приплутаешь в тайге, начнешь потерянно метаться из стороны в сторону, пока не просветлеет в голове, не догадаешься забраться на вершину ближайшей сосны. И тогда среди зеленого разлива облегченно увидишь, что совсем рядом возвышается над борами белая свечка, и сразу успокаивается запаленное сердце — не даст труба потеряться, укажет обратный путь к поселку.
Заводская печь и есть то многоглазое живое чудище, которого я так боялся. Печь без ремонта трудится всю войну, и мой дед говорит: «Прогорит кирпич насквозь, не сдюжит четвертого срока — быть тогда беде». Трудно поверить в его слова. Как это может сгореть сложенная из толстенных специальных кирпичей, похожая на громадную бочку печь, к тому же стянутая широкими полосами железа? Что она — берестинка или сухое полено?
Работу у печи не каждый выдержит. Каменная кладка источает такой жар, что невольно прикрываешь лицо руками. Горячий воздух обжигает ладони, горло, раскаляет рубашку, костяные пуговки на которой становятся горячее малиновых угольков. И как только дед да и все другие, кого вяжет к себе работой печь, выдерживают такую парилку. А может, и не берет их жар потому, что наши бутылочки, говорят, хорошо жгут немецкие танки и осознание этого факта заставляет работать людей, не считаясь ни с чем, не прислушиваясь к ударам колокола на проходной — лишь бы дать норму, да еще что-нибудь сверх нормы… Горите, проклятущие танки — лишь бы выдержали, не прогорели каменные боковины печи, а сельчане выдержат, обеспечат фронт столь нужной бутылкой.
На завод нас не пускают, строжат. Сидящая в тесовой будке, располневшая от своей болезни — водянки Настена Ильина, завидев кого-нибудь из ребят, высовывает в оконце голову:
— Кыш, проклятущие! Нет с вами сладу.
У будки рамы со стеклами поблескивают во все стороны, но глаз-то у сторожихи всего два, да и ругается она так, для постороннего уха. Разве нас от завода отвадишь, а о «секретной» его продукции известно в поселке последней собаке.
Попугав нас своим басовитым прокуренным голосом, Настена покидает будку и, «случайно» не заметив, как ныряем мы под широкие ворота, медленно переваливаясь на своих распухших ногах, ковыляет к перекладине, на которой висит потемневший колокол.
— Дон-н-н, дон-н-н… — плывут над поселковыми крышами и ближними борами печальные звуки. Не тает над трубой темноватый дымок, пожирает топка завалы березовых дров, заготовленных в деляне женщинами, пакуют проворные руки подростков в ящики еще не остывшие бутылки.
— Дон-н-н, дон-н-н… — колокол задает ритм и течение жизни поселка, всех в нем живущих. И лишь только нам он порой напоминает о родительских наказах, о невыполненной домашней работе. А так, что нам время, когда чувствуешь за плечами крылья, а впереди еще целая жизнь.
Не помеха нам проходная, не угнаться за нами грузной Настене. Да и ходим мы к проходной с единственной целью — поглазеть на прибитую к забору фанерную доску, на которой мелком записано, чья сегодня смена «лучше ударила по врагу». Но эту новость можно узнать и на заводе, там, где не стихает, вот уже четвертый год без отдыха бьется его сердце — плавильная печь.
На заводской двор мы чаще всего проникаем через высокий забор, который тянется вдоль поселковых улиц и переулков, соседствует с огородами, березовой рощей, а дальними своими звеньями взбегает на приречный косогор. Подгнившие столбы кое-где не выдержали тяжести трехметровых, заостренных поверху плах, и забор целыми пролетами лежит на земле — подправлять его некому. Так что нам и лаз искать не надо, тем более нырять мышкой в подворотню — иди спокойнехонько, до Настены, как до неба; главное, не распороть нечаянно ногу — повсюду кучами насыпан стеклянный бой. Но такая печаль ненадолго, так как привыкли наши босые пятки к порезам — зеленоватыми осколками густо сдобрены многие улицы в поселке. Другое дело дротик — тонкая, как паутинка, стеклянная нить. Такую глазом не углядишь, иглой не вытащишь — одна надежда на печь…