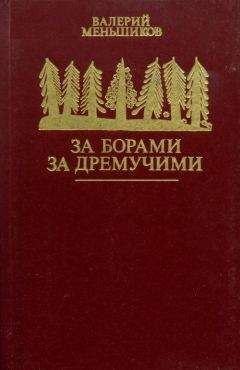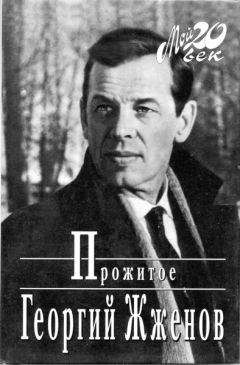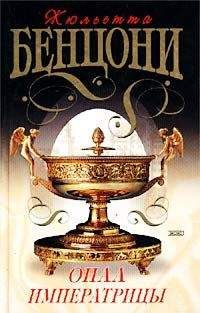Родившись однажды, кличка прилипла ко всей сысоевской родне, передается по наследству. Вот и отец у Вальки до войны был Колчаком, и сам он теперь носит это прозвище.
Валька похож на маленького мужичка. Плотный, невысокий, вровень со своей совковой лопатой, которой он кучкует песок. Одежонка у него, видать, отцовская: и пиджак, схваченный в талии сыромятным ремешком; и кирзовые сапоги, в которых он утонул до самых коленок; и надвинутая до сизо-пыльных бровей фуражка. Валька старше меня всего года на три, но он работает, получает усиленный паек, и потому я для него — мелюзга, с которой не всегда можно и разговаривать. По той же причине он для меня не Колчак, а Валька Сысоев, ну, в крайнем случае — Сысой. При моем появлении он еще усерднее начинает подгребать песок, но Агнея охолаживает его: — Уймись, Валек, передохни…
Глаза у Вальки, как у окуня, горят воспаленной краснотой, брови и ресницы распушились, будто покрылись изморозью.
Он садится на березовый чурбак, достает из кармана самый что ни на есть настоящий кисет.
— К деду, что ли, пришел?
— К нему. Сменщик евоный заболел.
Агнея ненадолго выходит, и мы остаемся вдвоем.
— Закуришь? — дружелюбно предлагает Сысой, протягивая мне кисет.
— Не-е, не хочется.
— И мне в куреве нужды особой нет, а надо… Дым, он эту грязь, — Валька кивает на седые стены, — в грудь не пускает. Все как-то легче. Агнея-то опять пошла кровь из себя выводить. Который день уже харкает. При тебе-то постеснялась… А ты и правда иди отсюда, а то потом полдня этой едучкой плеваться будешь.
Застилает мне глаза какая-то пелена. Может, виновата вот эта самая едучка, а может, жалость к маленькому мужиковатому Сысою, к харкающей кровью тетке Агнее подмывает слезами мои глаза. Я торопливо протягиваю Вальке руку:
— Бывай…
Дед с Костей уже работают у печи, пустой горшок увязан в тряпицу. Пора бы по бабкиному наказу возвращаться домой, но я присаживаюсь на лавку, наблюдаю за ними. Вот Костя сунул в малиновое оконце конец трубки, крутанул ее несколько раз в ладонях. Не каждый сумеет вот так, на глаз определить, сколько надо поймать на металлический стерженек стекла, чтобы бутылка в форме получилась ровной и тонкостенной, без всяких потеков и донных утолщений. Костей дед доволен, я это знаю, и, может, скоро благословит ему одну из своих стеклодувных трубок для самостоятельной работы. Костя ждет этого дня, мечтает стать настоящим мастером-стеклодувом. Ведь тогда на доске у проходной краской напишут: смена К. Ф. Богданова.
Костя передает деду трубку с огненным солнышком на конце, и дед начинает свой обычный «танец». Сначала у него оживают руки, они как бы существуют отдельно от туловища, раскачиваются, плавно взлетают вверх, отрешенно опускаются вниз, легко играют невесомой трубкой, подкручивают ее, подносят к губам, и тогда в движение приходит все: ноги, спина, шея, голова. Огненный шар летает вокруг деда, растет с каждым прикосновением трубки к его губам, и я зачарованно слежу за его полетом. И может, потому до меня не сразу доходит, что завершает свой привычный «танец» дед не около просаленной бутылочной формы, а подходит к столу с металлической столешницей. Огненный шар медленно катится по ней в одну сторону, в другую, меняет свои правильные красивые очертания, и вот уже на конце трубки что-то бесформенное, уродливое, совсем для меня не понятное. Костя подает деду большие ножницы, и он стрижет ими вязкое стекло, будто баранью шерсть, что-то подбивает, похлопывает, вытягивает какие-то ленточки, завивает колечки. Радостное предчувствие обдает меня горячей волной. Я уже стою рядом с дедом — что мне малиновый жар! — да и многие женщины вечерней смены сгрудились вокруг стола, наблюдают за его руками.
Да, я не ошибся в своей догадке — на глазах у всех рождалось настоящее чудо — стеклянный малиновый петушок. Вот и полураспущенные крылышки, и остроклювая головка со спадающим набок гребешком, и гордая округлость груди, и пышный ленточный хвост, и даже шпоры-отростыши.
Оживи он сейчас, и будет, наверное, таким же горласто-драчливым, как наш куриный хозяин Цыпа. Бабка всегда держала задиристых петухов, которые — перья вон! — а соседских всегда бивали. А еще любила певучих. Голос которых проникал сквозь рубленые стены домов и слышен был не только в своем подворье, но и на дальних подступах к нашей улице. Это нам, ребятам, ранняя петушиная побудка в надоедливость, а хозяйкам — в успокоение: не проспали к началу своей извечной домашней управы. И несмотря на то, что из всех щелей выползала нужда, без всякой жалости донимала война, заставившая многих под корень извести дворовую живность, бабка уберегла от дедова ножа и коровенку нашу, и забияку Цыпу, не раз терявшего радугу своих перьев в поединках со своими куриными врагами.
Эх, Цыпа, Цыпа! Сегодня с высоты прожитых лет и не припомню, угодил ли ты все-таки в чугунок, или доконала тебя в стаюхе обычная куриная старость. Не будь тебя, разве придержались бы в памяти рассыпанные в дворовой конотопке лучистые одуванчики — цыплята, а может, и припозднилось бы за дремучими борами солнце, не услышав твоей красивой предутренней песни. И в моей книге детства не оказалось бы одного дорогого листочка. А значит, было бы оно неполным, обделенным мгновениями радости…
И сегодня в домах моих сельчан из-за резных стекол «стенок» или кухонных буфетов нет-нет да и явится глазу, обожгет нечаянно память, полыхнув радужным хрустальным многоцветьем, какая-нибудь поделка. Сделанная искусными руками в короткие минуты отдыха, рожденная воображением и светлым душевным откровением мастера. Нам, ребятишкам, на утеху. Потому и звал нас постоянно завод на высокий берег говорливого Ниапа, под свою горбатую крышу и каждое свидание с многоглазой печью сулило особые радости — не возвращались мы от нее без подарка, а то и просто горстки горящих самоцветами стеколок.
Многое из той жизни утеряно безвозвратно, многое позабылось.
А вот рукотворный петушок и сейчас стоит перед глазами, строжится гордо вскинутой головкой, черными бисеринами глазенок. Живет он во мне тихой радостью, дальними улыбками дорогих мне людей, что стояли когда-то вокруг стола в старом задымленном помещении нашего заводика, любовались работой мастера — моего деда, давно сошедшего с земной дороги к месту своего вечного покоя. А может, это его неугомонная душа продолжает жить во мне горячим осколочком, тревожит память, не давая забыть светлых счастливых минут среди всеобщего горя…
Нет, не приторопишь рассвет хворостиной, как нашу блудливую коровенку Зорьку, не подсушишь росные травы до восхода солнца, как бы этого ни хотелось. Будто недосуг светилу очнуться раньше времени, подзолотить вершинки заречного бора, помочь собраться нам в задуманную дорогу. Жди, томись, вылеживай на полатях бока, пока не растает за окнами сумеречь и бабка вслух подумает:
— Ну, кажется, и обогрелась дорога. Пока до места доберутся, совсем теплынь подойдет. Пора будить…
И не отправляла бы она нас в лес, да растревожили мы ее вечерним разговором, что уродило нынче за Чертовой ямой видимо-невидимо капризной ягоды малины. И правда, стояла в моих глазах вся усыпанная молочным цветом, едва выбросив первые листочки, колючая поросль. Заморозки в этом году припозднились, не успели коснуться цвета, тут уж деваться некуда — быть ягоде. Это любому понятно. Вот и загорелось бабке насушить ее про запас, чтобы поить всех в зимнюю пору запашистым чаем, лечить наши бесконечные простуды целебными настоями.
А нас долго упрашивать не надо. Сами тот разговор завели, с расчетом на бабкин интерес к довольно редкой в наших лесах лакомой ягоде. Есть или нет малина, пока и нам неизвестно, хотя время, конечно, раннеспелке подошло. А вот Чертова яма всегда на месте. Огромным темно-коричневым блюдом покоится это озерко среди до удивления белокорых берез. Не озерко даже, а какая-то бездонная воронка, заполненная тяжелой непроницаемой водой, которая студит руки даже в самый жаркий день. Вот и не дает нам яма покоя, тревожит своей нераскрытой тайной, до которой, несмотря на все страхи, хотелось бы добраться.
Кто ее так прозвал и когда, того и вездесущая бабка не знает. Но то, что водится в ней разная нечисть, верит, как верят в это многие бабки в нашем поселке, а мы, ребятня, и подавно. А потому не можем пройти равнодушно мимо заполненной дегтярной водой впадины, не подумав о том, что скрывается в ее глубинах. Зовет, тянет Чертова яма в свое придонье, под черное покрывало воды. И это желание, как жгучий крапивный зуд, не уйти от него и ничем не успокоить…
Пока я укладываю в корзинку банки-набирушки и уже на пороге выслушиваю наперед известные бабкины наказы, брат Генка ныряет в кладовку. В руках он держит моток добротной веревки, и я догадываюсь, что у него свои, особые виды на наше лесное хождение и на Чертову яму, опять он что-то задумал такое, отчего мне заранее становится не по себе. Молчу: как бы ненароком его не выдать, придет время — расскажет, зачем утянул запретную веревку-увязку, к которой без ведома деда и прикасаться нельзя. Но что до этого Генке. Парень он живой, резкий, и все запреты не для него писаны. В ступе его, по словам бабки, не утолчешь и без поводка на улицу не отпустишь. А вот ведь не углядела, выпустила, да еще и с покосной веревкой впридачу.