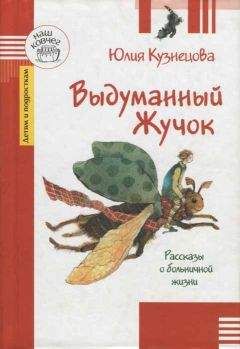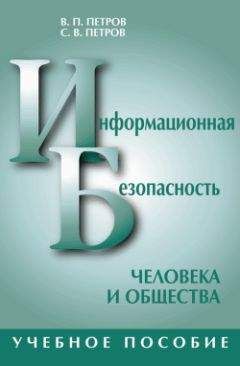— А шунт? — спросила мама шёпотом.
Она про шунт всегда шёпотом говорит.
— Шунт в порядке. Как ни странно.
— Подождите, — до мамы вдруг дошло, — у неё перелом черепа?!
— Да, — улыбнулся Игорь Маркович.
— А как его вылечить?
— Да никак. Сам срастётся. У Натали замечательный череп. Я ему доверяю.
— А лечить чем?
— Пропейте курс фезама. Он снимает последствия ушиба. Ушиб-то всё равно был.
— А шишка? — спросила я, опять пощупав затылок.
— Шишка — гематома. Скопление крови под кожей. Тося её за секунду шприцем уберёт.
— Тося, — с ужасом пробормотала мама.
Меня положили на кушетку в «смотровой». С одной стороны — Тося со шприцем. С другой — мама держит меня за руку. Тося щёлкнула включателем лампы и выразительно посмотрела на маму. Наверное, расскажет тем, кто будет завтра выписываться, какие ужасные на свете мамы бывают — отпускают детей с шунтами на стройку. Мама не проронила ни слова. Только поглядывала виновато на Тосю.
— Да прекратите, — не выдержала я, жмурясь от яркого света, — Тося, не надо маму ругать. Это я во всём виновата. Никогда больше не полезу в старый дом. Обещаю.
— А больше и не надо, — проворчала Тося, но маму ругать не стала.
— Больше я тебя и не отпущу, — сердито сказала мама, придерживая ватку с перекисью на моей голове, освободившейся от шишки, — прикручу дома к стулу.
Вот ведь взрослые, а? Идёшь им навстречу, стараешься всю вину на себя взять, чтобы не ссорились, а они тебе ещё и втык сделают! Ладно, пусть!
Всё равно они в жизни не догадаются, почему я больше не полезу в заброшенный дом. Просто я сообразила — чтобы внимание Мурашова привлечь, надо в шахматы научиться играть. Это я только сейчас, после ушиба поняла.
Но лучше бы никакого ушиба не было… Дурацкая всё-таки вышла история.
Как я почти не завидовала Ане
В конце концов я всё-таки заснула, сидя в Анином изголовье.
— Ну вот, — услышала я сквозь сон голос Игоря Марковича, — раз одна улыбается, то и другая скоро смеяться будет.
Я вскочила. Оказывается, они перенесли меня на соседнюю кровать, а сами перекладывали Аню на каталку.
— Ты чему так улыбалась, Натали?
— Да так. Вспомнила одну дурацкую историю. Про вас.
— Про меня? — удивился Игорь Маркович и посмотрел на Анину маму.
Но она даже голову не повернула. Одной рукой она держалась за стенку, другой — за спинку стула. А когда Аню увезли, села на стул и заплакала.
Зря она плакала. Вышло ещё лучше, чем я надеялась. Ане сделали эндоскопию. То есть проделали ма-а-ленькую, но замечательную дырочку, через которую лишняя жидкость сама проходит без всякого шунта туда, где должна всасываться.
— И шунт тебе совсем не нужен теперь? — спросила я у Ани, когда она пришла в себя.
— Ни капельки. Только шрам остался, бр-р! Чур не завидовать!
— С ума сошла?
Вечером я заглянула к Игорю Марковичу.
— А почему мне нельзя просверлить такую дырочку?
— Видишь ли, Таша… Я не очень уверен в некоторых особенностях строения твоего мозга.
— То есть считаете меня глупой?
— Ну что ты… наоборот. У тебя столько извилин, что нашей волшебной дырочке места нет. Мы пробовали сделать тебе её, когда тебе был годик. Не вышло. С возрастом многое меняется, но сейчас безопаснее сменить шунт.
Перед сном мы играли с Аней в карты, и мне показалось, что она поддаётся.
— Я тебе не завидую, — строго сказала я, смешав карты, а потом вздохнула и добавила: — Ну только если самую малость…
Как я узнала, что нашим папам тоже нелегко…
Ночью мне захотелось пить. Мамы в кровати нет. Я — в коридор. Темно. Правой рукой прижимаю к груди Жучка. Левой веду по стене: первая дверь — компьютерная, вторая — ординаторская, третья — кухня, где чайник с кипячёной водой.
В кухне остро пахнет дезинфекцией, она освещена мягким зелёным светом и вообще похожа не на обычную кухню, а на какую-то космическую.
Я поднимаю за ручку жёлтый чайник с красной надписью «1-е нейрохир.» и пью прямо из носика, пока никто не видит, холодную воду со странным привкусом.
Анина мама говорит, что привкус странный, потому что водопроводные трубы изнутри грязные и ржавые, но мы с Жучком знаем, что в такой кухне и вода, как из космоса.
Вдруг в конце коридора возле вешалки слышу рыдания. Мама! Говорит по телефону и рыдает.
Ну вот, стоит на секунду уснуть, а она уже бежит жаловаться папе на свою несчастную судьбу.
— Ты хоть на своей кровати спишь! — плачет мама. — А я — на стульях. Или на Ташкиной, подростковой, с краю на одном боку. А сыр? Ты мне опять не тот сыр принёс! Я не знаю, какой, я же не видела, что там продавалось! Что значит тебе «надо выспаться»?! Перед работой? Да это счастье — ходить на обычную работу! Там можно переключиться!
Я выхожу из кухни и в темноте пытаюсь разглядеть маму за вешалкой.
Ане уже назначили дату выписки, а мне — нет, потому что у меня обнаружили температуру. Невысокую, 37 всего. Но с температурой из больницы не выписывают.
А мама устала страшно. Из неё словно кто-то высасывает силы каждый день.
— Вон кто, — шепчет мне Жучок и загорается изнутри зелёным, как светлячок.
Он освещает маму, и вдруг я вижу: на плече у мамы тоже Жучок. Но другой — блестящего чёрного цвета, с цепкими лапками и хоботком.
— Жучок Отчаяния, — шепчет мой, — берегись!
— Сейчас я ему врежу! — говорю я и собираюсь шагнуть в темноту, чтобы вытащить маму и стряхнуть мерзкого Жучка Отчаяния, который высасывает из неё последние силы.
— Что значит тебе «тоже тяжело»? — вдруг говорит мама в трубку. — Ты в туалет нормальный ходишь! А не в детский! Походи месяц в детский туалет и умывайся над баком с грязными пелёнками! Я на тебя тогда посмотрю!
«Пип»! Мама отключает мобильник. Я наконец шагаю в темноту, но не вытаскиваю её из-за вешалки, а обнимаю одной рукой, а другой пытаюсь стряхнуть Жучка Отчаяния. И тут у меня мелькает мысль: почему папе тяжело?!
Он же не в больнице.
Папа № 2— A-a-a! Ты сдурела?!
Мы с Анькой подскочили на банкетке, журналы, клубки ниток и жучки полетели с наших колен на пол.
— Ты! Ты! — захлёбывается Тося, тыча пальцем в грудь Мадины.
Мадина — полная красивая чеченка с косой, младше мамы. Она прижимает к груди пятимесячного Малика и с ужасом смотрит на Тосю.
— У вас же нельзя воровать! По закону этому вашему! Мусульманскому!
Наша Тося, рыженькая, сгорбленная, похожая на старенькую белку, никогда не повышает голоса. Что же могло её так довести?
— Я больше всего вранье не люблю! — кричит Тося. — Ты уж либо верь в твоего Аллаха и твой закон, который за воровство руки отрубает, либо воруй!
Малик улыбается Тосе, думая, что она с ним играет, но Мадина бледнеет.
— Не буду, — с акцентом шепчет она, — не буду… не говори… муж убьёт.
Из Тоси сразу будто пар вышел.
— Ладно, — машет она рукой, — не буду. Мужья у вас — ненормальные, знаем, газетки-то почитываем. Тебя наши дурынды научили пелёнки красть? Но мозги-то свои должны быть! У тебя же четверо детей!
Мадина кивает, по её лицу текут слёзы.
— Мужу не говори, — повторяет она и торопливо отходит в сторону. Опустив голову, пробегает мимо наших с Анькой мам на банкетке — ей стыдно перед соседками.
Она не знает, что никто не осуждает её за воровство пелёнки. Это же популярная больничная примета — украдёшь пелёнку, никогда сюда не вернёшься. Но как же пребывание в больнице подточило мусульманку Мадину, чтобы…
Мадина добирается до нашей банкетки и усаживается рядом — с детьми ей не так стыдно. Аня протягивает Малику красный клубок ниток, он вскрикивает от восторга.
— Не волнуйтесь, Мадина, — говорю ей я, — вам инфекцию пролечили, шунт сменили. Скоро отпустят домой без всяких пелёнок.
Мадина смотрит в пол.
— Дома каждый день, — тихо говорит она, — я пеку мужу чепалгаш. Кто ему готовит без меня?
— Чепалгаш? — переспрашивает Аня. — Пирожки? Нет, это такие лепешки с творогом?
Мадина кивает.
— Из-за лепешек? — повторяю я. — Весь сыр-бор из-за каких-то лепешек?
— И так в прошлый раз перед мужем стыдно было, — шепчет Мадина, — шунтированного ребёнка домой везу. Ревела всю дорогу.
У меня щиплет внутри, там, где горло. Ведь звучит это как «бракованного ребёнка». Между прочим, я тоже шунтированная! Бедный Малик…
— А теперь вернулись с инфекцией… и всё никак не уедем. Кто печёт мужу чепалгаш и выбивает ковры в моём доме?
Мадина как будто во сне. Вдруг она выпрямляется и смотрит на Аню.