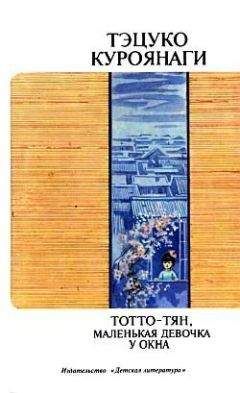где-нибудь в правлении пристроится! Я Жанетту с пеленок воспитывала, мучилась с нею, пока вы бог знает где были да с горем пополам на сухую корку зарабатывали. И не тычьте вы мне эту дочку Прюнье, потому что… О, пресвятая богородица, прости меня, грешную, чуть было не согрешила сейчас!
— Да, уж лучше помолчать вам, мама, — сказала Полина.
— У маленькой Мари Жантиль даже нашей Жанетте есть чему поучиться. Мари — толковая, старательная девочка. Как раз сегодня я говорила ее матери, что пошли она ее в Париж к какой-нибудь благородной, аристократической даме, девочка пообтесалась бы немного, научилась бы манерам, а уж потом… куда ее ни поставь, везде к месту придется. И что вы ни говорите, а наша Жанетта, если господь продлит мои дни…
— Надеемся, мама, что надолго продлит, — сказал Йожеф Рошта таким спокойным и решительным тоном, что старуха умолкла. — Совсем ни к чему столько разговоров. Ведь если я один раз что скажу, так уж настою на своем, поэтому слушайте внимательно. Моя дочь никогда и никому прислуживать не будет, понятно? Никому она не станет кланяться за чаевые, а будет честно зарабатывать свой хлеб, как ее мать и отец, который лучше на веки вечные останется забойщиком, чем пойдет наушничать французским да американским хозяевам. А вам я говорю сейчас в первый, но и в последний раз: придержите язык, а не то пожалеете!
— Не угрожайте мне, слышите? — Мадам Мишо яростно жестикулировала. — А не то уеду и все с собой заберу!
— Ничего, мы и на полу крепко спать будем, — тихо сказал Йожеф и поглядел на жену, потом на дочь.
Мадам Мишо вдруг испугалась того, что никто ее не задерживает. Голос ее сразу стал плаксивым, глаза с мольбой обратились к распятию:
— Бог вас накажет за то, что вы так говорите со мной, старухой! Что сталось бы без меня с вашим ребенком!.. А теперь…
— Это правда, — сказал Йожеф Рошта. — Но ведь вы прекрасно знаете, что никто не хочет вас обидеть, так и живите с нами мирно.
Он вынул ноги из воды, не торопясь вытер их старенькой простыней, сунул в шлепанцы и затем, подойдя к плите, проглотил несколько кусочков картошки. Хорошо бы выкурить сейчас трубку в теплой кухне! Комната наверху не топлена, да Йожеф там и не курил никогда — за всю ночь не затянется ни разу из-за Полины… Его взволновала эта сцена. Какая коварная старуха! Хнычет, плачет, а завтра начнет ходить из дома в дом да жаловаться: вот, мол, зять, какой-то чужак-проходимец, обращается с нею, как с собакой, — вчера вечером чуть не побил…
Исполненная достоинства, с высоко поднятой головой мадам Мишо проследовала в каморку Жанетты, шаркая разношенными шлепанцами. Было слышно, как она взбивает подушки, с необычным шумом вытряхивает за окном покрывало, расправляет простыню — видимо, ей хотелось показать, что, не позаботься она, пришлось бы девочке спать на неразобранной постели. Потом скрипнуло окно — мадам Мишо, облокотившись на подоконник, дышала свежим воздухом, чтобы улегся скопившийся гнев.
Кто-то остановился под окном, и сразу же послышался визгливый голос старухи:
— Да какая же моя жизнь, мадам Роже? Жду, когда господь приберет. А до той поры буду нести свой крест. Вы-то знаете — у каждого свои горести…
Полина сидела, согнувшись, в углу неприбранной кровати. Спицы тихонько постукивали в ее руках. Йожеф Рошта мог без конца смотреть на непрерывное движение ее спиц и на то, как под руками жены растет и обретает форму вязаный жакет. Прислушавшись к шушуканью, доносившемуся из каморки, Полина тихо рассмеялась:
— Это она у графини Лафорг научилась. Та тоже была ужасно благочестивая и ходила так же вот, растопырившись. Сколько раз мама рассказывала, какая гордая была эта графиня! Даже собаке ее приходилось на стул вскакивать, чтобы хозяйка погладила, — ведь наклоняться графиня ни за что не стала бы!
Жанетта хихикнула, и Йожеф Рошта тоже с облегчением улыбнулся. Все-таки он закурил перед сном. Вынув из кармана гимнастерки свою трубку с коротким мундштуком, он набил ее и прикурил от уголька. Он стоял, задумчиво глядя в окно. Потом, не оборачиваясь, сказал жене:
— У тебя спина заболит, если будешь всегда так сгибаться. Почему ты не сядешь на стул?
— Нет, нет, — торопливо ответила Полина. — Мне здесь удобнее…
Над черными конфорками плиты, колеблясь, плыло густое облако дыма, который клубами выходил из трубки Йожефа; он сидел согнувшись, с опущенной головой и выпускал из трубки всё новые и новые облачка дыма, а те как будто в испуге сразу же разбегались во все стороны. Йожеф Рошта и сам не знал, почему вдруг возникла в его мыслях сестра, с которой он давно не виделся. Быть может, старая теща напомнила ему Вильму — напомнила именно своим несходством с Вильмой, неизмеримой разницей между ними. Сколько лет сейчас сестре? Сорок восемь, сорок девять… Кто знает, жива ли она — ведь с начала войны он ничего о ней не слышал. Она старше его на десять лет. Йожеф был поздним ребенком, Вильма вынянчила его; не раз, бывало, и штанишки ему спустит да всыплет как следует… Но если бы его спросили, на кого он хочет, чтобы походила его дочь, когда вырастет, он назвал бы ее, сестру Вильму, только ее…
— Папа… — неожиданно зазвенел в глубокой тишине голос Жанетты, — папа, скажите, а что сталось с вашей сестрой? Помните, вы когда-то о ней рассказывали.
Йожеф Рошта обернулся так резко, что Жанетта вздрогнула, не понимая, отчего отец так странно смотрит на нее.
— И правда, — сказала Полина, — что с Вилма?
Как странно слышать имя Вильмы в произношении Полины — «Вилма». Ведь сестра, пожалуй, ни одного французского слова в жизни не слышала.
— Не знаю, — сказал он. — Но я как раз думал о ней.
— Вы помните ее, папа?.. Какая она?
— Она? Она… хорошая. Хорошая женщина.
Больше он ничего не мог сказать, как ни хотелось ему дать им представление о сестре Вильме. Вернулась мадам Мишо. От ее глубоких вздохов высоко взметнулся огонек