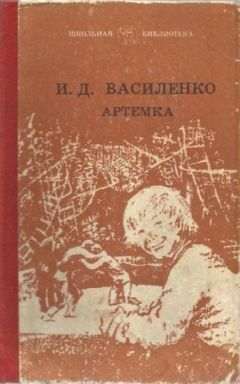— Вот что, старик: все мы живем раз, умирать никому не охота. Живи и ты. Придет время, все утихомирится, ты узнаешь покойную старость. Я даже отдам тебе вот этого твоего любимца. Пожалуйста, ходи, артист, и забавляй людей. Но все это при двух условиях. Во-первых, ты назовешь нам тех, кто тебе платит. Понимаешь, старик, не верю я, чтобы ты действовал, как говорится, по убеждению. На кой черт тебе, бродячему кукольнику, какие-то там убеждения! Твои убеждения — это не пропасть с голоду, добре поесть, добре выпить. И правильно! Для того живем. Второе условие такое: ты напишешь своей дочке записочку… — Моя дочь в море, — прервал его Кубышка.
— Если б она была в мире, ты бы этого не сказал. Продолжаю; ты напишешь дочке записку, чтобы она, ради твоего спасения, пришла ко мне. Не сюда, нет! На квартиру. — Крупников перегнулся через стол и многозначительно уставился своими круглыми, с маслянистым блеском глазами в задрожавшее лицо старика. Понимаешь? — Он встал, открыл сейф. На пухлой руке повисло ожерелье. — Видишь? Чистый малахит. Недавно потрусили одного еврея… И вот, — бросил он на стол массивный золотой браслет. — Великоват, конечно, но из большого сделать малое легче, чем из малого большое… И вот. — На стол упал серебряный в форме змеи пояс. — И это, — помахал он в воздухе черными, с шелковым блеском чулками. — Мечта наших дам, интимный дар французских друзей. Всё — ей. И ходить она будет не в полинялом ситце, а в бархате, как ей и подобает, ибо вся она — как английская статуэтка. Если ты не дурак, то и дочь свою осчастливишь, и сам при ней будешь жить припеваючи. — Крупников опять уселся в кресло и взял в руки Петрушку.
По мере того как он говорил, лицо Кубышки все гуще багровело и все чаще вздрагивал на щеке мускул. Когда Крупников сел, старик еще несколько секунд молча смотрел ему в лицо. И вдруг, резко выбросив вперед руку, сказал:
— Дай!
И столько было силы в его голосе, такая прозвучала убежденность в своем праве приказать, что Крупников раскрыл от изумления рот и послушно протянул куклу.
Не спуская со следователя горевших гневом глаз, отчеканивая каждое слово, старик сказал:
— У Петрушки нет в руках сейчас палки, но он голову свою не пожалеет, чтобы наказать подлеца…
Взмах руки — кукла мелькнула в воздухе, с сухим треском ударила следователя в лоб и распалась на куски.
Отшатнувшись, Крупников гулко стукнулся о стену затылком.
— Конвойный! — взревел он. — Бей его! Топчи! Глуши!
Окровавленного Кубышку отвезли в тюрьму. Попал он в ту же камеру, где столько месяцев томился Артемка.
По два раза в день вывешивались у здания градоначальника сводки о «победоносном» и «ничем не отвратимом» движении белых армий на Москву. Отпечатанные на машинке, сводки эти попадали под стекло витрины раньше, чем в редакции газет, и к двухэтажному, с колоннами дворцу в стиле ампир тянулись заполнившие город сиятельные дегенераты, лысые, в роговых очках банкиры, бородатые, в синих, из тонкого сукна поддевках и бритые, в английских смокингах промышленники, кадетские и махрово черносотенные лидеры, обсыпанные пеплом сигар журналисты, пронырливые, с глазами голодных волков спекулянты. Наступая друг другу на ноги, они толпились на каменных плитах тротуара и так громко сопели, читая свежие строчки сводок, будто внюхивались в каждое их слово.
Но вот в сводках неожиданно появилась весьма подозрительная фраза: «По стратегическим соображениям…» Через два дня всплыла фраза уже открыто неприятная: «Под давлением превосходящего по численности противника…» А затем застекленная дверца и совсем перестала открываться, и за нею, наводя злую тоску, линяла старая сводка, уходящая своей датой все дальше назад.
Встревоженная «соль Русской земли» направилась к дому окружного атамана. Но туда в это время пригнали под конвоем человек двести арестантов дезертиров, мелких воришек, босяков, и прямо на улице стали выдавать им военное обмундирование.
На крыльцо вышел атаман, широкозадый казачий генерал. Багровея и раздувая усы, он заорал:
— Идиоты! Кого вы привели? Да они же при первом выстреле разбегутся или сами начнут стрелять нам в спину! Разогнать эту шпану!
И «шпана» с радостным гиканьем смылась.
Видя такое дело, стала из города «смываться» и «соль».
Но чем хуже складывались для белых дела на фронтах, тем яростнее работала контрразведка. Ляся, пленница маленького флигелька старушки учительницы, куда ее спрятал Лунин, таяла на глазах своей хозяйки. Девушка считала себя виновницей страшной беды, в какую попал ее отец, и мучилась угрызениями совести. Когда Лунин привел к ней ночью Герасима, тот только головой покачал.
— Эх, ты! — сказал он студенту укоризненно. — Не выполнил задания.
— Она не захотела, — вздохнул Лунин.
— Не захотела! А ты бы ее связал да в баркас бросил.
Ляся взяла обеими руками руку Герасима и, заглядывая ему в глаза, сказала:
— Мы спасем их, товарищ Герасим?
— Кого — их? — спросил он.
— Отца и Артемку?
— А остальных?
— И остальных. Но если бы вы знали Артемку…
— Знаю Алексей мне уже рассказал. Да, по всему видать, парень он настоящий. — Герасим помолчал и сурово сказал: — Ляся, я вас уважаю: вы тоже настоящая. Если б вы бросили его тут, я б… Ну сами понимаете…
— Не дали б мне путевку в Москву? — слабо улыбнулась девушка.
— Не дал бы, — серьезно подтвердил Герасим. Он опять помолчал и будто с удивлением сказал: — Сколько хорошего на этой земле! Вот та, что за мужем на каторгу поехала… Волконская. Я б ей памятник поставил, даром что княгиня… Так вот, Ляся, скажу вам не таясь: дело серьезное, дело трудное. Как справимся, и сам не знаю еще. Но… отбивать будем. Там, среди тюремщиков, у нас есть свой человек. Он предупредит, когда их поведут.
— Куда поведут? — замирая, спросила Ляся.
— Ну… сами знаете. Что другое, а тюрьму они ликвидировать будут.
Ляся вздрогнула:
— Да, я понимаю… Но вы ведь и меня возьмете с собой, правда?
— Что вы, милая!.. — даже засмеялся Герасим. — Вы нам еще для другого дела пригодитесь.
— Значит, так, — зло сказала Ляся: — одни ни на что больше не нужны, как только отдавать жизнь в борьбе, а другие, вроде меня…
— Ну, хватила! — перебил ее Герасим и пожаловался: — А с тобой трудно, девушка! Понятно теперь, почему Алексей не выполнил поручения. Что ж, когда так, пойдешь сестрой. С йодом пойдешь, с бинтами…
— Я пойду с Лясей рядом, — сказал Лунин.
— Тоже с йодом? — прищурился Герасим.
— Нет, с револьвером.
Утром Лунин отправился прямо в контрразведку. В кабинете Крупникова сидели военные. Все они склонились над столом, на котором в беспорядке лежали какие-то списки.
— Что тебе, Алеша? — неохотно поднял голову Крупников.
— Извини меня, Петя, но я отберу у тебя ровно две минуты. Дело… гм… приватное.
Крупников вздохнул и посмотрел на военных. Те молча вышли.
— Вот что, Петя, — прямо приступил Лунин к делу: — в городе, ты знаешь, тревожно. Как-никак, мы с тобой сидели за одной партой. Я хочу тебя спросить: в случае чего, ты поможешь мне уехать?
— Вот как? — удивился Крупников. — А я думал… Ведь ты, кажется, с меньшевиками?.. Нет, я беспартийный. Но все равно, я с большевиками здесь не останусь. Да и меньшевики, насколько мне известно, собираются уехать. По крайней мере, Николаев уже чемодан уложил.
— Городской голова? Ну, этот, конечно… Что ж, Алеша, дело несложное. То есть несложное пока, а дальше — черт его знает… В общем, зайди завтра. Сегодня я — вот, — провел он пальцем по горлу. — Некогда вздохнуть.
— А что? — участливо спросил Лунин.
Крупников оглянулся на дверь и доверительно шепнул:
— Тюрьма. Списки просматриваем.
— А… — равнодушно отозвался Лунин. — Это, наверно, не очень приятное занятие — возиться…
— А что в нашем деле приятное? Нас вот даже свои ругают: «Засели в тылу, душите безоружных…» А попробовали бы они сами посидеть здесь, чистюльки сиятельные, вояки паршивые! Только отступать умеют. Меня один такой безоружный недавно так хватил по морде, что я думал — и дух вон. Видишь, какой герб нарисовал?
— Да, в самом деле, — сказал Лунин, сочувственно разглядывая на лбу Крупникова сине-багровое пятно. — Ты б припудрил его.
— Пудрил уже… Да! — вдруг оживился Крупников. — Ты ж его знаешь — это тот, кукольник! Помнишь?
— Кукольник? Неужели?.. — привскочил Лунин на стуле, но сейчас же овладел собой и возмущенно воскликнул: — Ах, хам какой! Значит, ты его все-таки схватил?
— Схвати-ил! Это такой злодей. Старый, тощий, а жилистый, проклятый: всем тут синяков наставил, когда его били. Да! — опять вспомнил Крупников. — У меня здесь еще один наш общий знакомый: Артемка! Помнишь, сапожник-мальчишка, что в наших спектаклях участвовал?