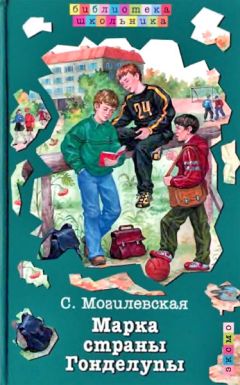— Я?! — воскликнул Лева, вопросительно поднимая правую бровь. — Я? За что?
— А помнишь, вчера…
Петрик хитро мигнул, что должно было означать намек на какое-то забытое обстоятельство.
Лева казался совершенно изумленным и вслед за правой поднял и левую бровь.
— Я? На тебя? Обиделся? — проговорил он, каждым словом выражая неподдельное удивление. — За что? Ничего не помню…
— А шведскую серию-то я не хотел менять, помнишь?
— А-а-а… шведскую серию… Я про нее давно забыл. Да и что же обижаться? Не хотел, так не хотел. Это твое дело. Силком меняться не заставишь.
И тут же в знак дружбы Лева подарил Петрику хорошенькую персидскую марку.
Следующие дни Лева попрежнему был нежен и внимателен.
— Петрик, — сказал он, когда они вместе шли домой, — хочешь, я буду с тобой готовить уроки?
Как жалел в эту минуту Петрик, что он не мог сказать: «Хочу»! Он прямо с душевной болью должен был сообщить, что уроки они готовят вчетвером — Кирилка, Петрик, Опанас и мама.
— Жаль, — сказал Лева, хотя в голосе его прозвучало откровенное облегчение, — очень жаль! А то я бы тебя в три дня сделал круглым отличником…
И снова Петрику с грустью пришлось сообщить Леве, что он давным-давно круглый отличник. Даже Кирилка понемногу начинает получать «хорошо», а по арифметике получил «отлично», хотя ему ужасно мешают кляксы. Что касается Опанаса, то и Опанас тоже перейдет во второй класс если не совсем круглым, то полукруглым отличником, особенно если станет хорошенько думать и не делать все «тяп-ляп»…
— Ладно, — оборвал его Лева, — тогда хочешь, завтра пойдем вместе на каток?
— Хочу! — воскликнул Петрик.
— Ты фигурять умеешь?
— Нет, — сказал Петрик.
— Гм!.. А какие у тебя коньки?
— «Динамы»! — гордо сказал Петрик. — Прямо к ботинкам приклепаны… Мне мама к елке подарила.
— Эх! Разве на таких теперь катаются?! — презрительно проговорил Лева. — Вели матери «гагены» купить… Я своей так и сказал: «Не купишь «гагенов», буду учиться на «посы» и «плохо». Купишь — стану круглым отличником!» Живо, как миленькая, помчалась в спортивный магазин и купила. Вот как дела делаются.
— Нет, — твердо сказал Петрик, — я со своей мамой никогда так разговаривать не буду…
— Ну и дуралей! До десятого класса будешь на своих «снегурочках» гонять…
— У меня вовсе «динамы», — обиженно сказал Петрик. — Это разница.
— По-моему, никакой, — отрезал Лева. — Ну, ладно! Значит, завтра на катке? Пока.
— До свидания! — сказал Петрик и помахал Леве рукой.
Но не успел он сделать нескольких шагов, как Лева его окликнул:
— Поди-ка сюда!
Петрик подошел.
— Петрик Николаев, — проговорил Лева торжественным голосом, — ты умеешь держать язык за зубами?
— Не знаю, — сказал Петрик, растерянно заморгав, — не знаю…
— Умеешь или не умеешь?
Глаза у Левы сверкали. Ноздри раздувались. Голова была надменно закинута. Петрик понял: должно произойти что-то сверхнеобычайное.
— Я попробую, — пролепетал Петрик, — попробую…
— Поклянись, что никому, ни одному живому человеку в мире, не скажешь о той великой тайне, которую я тебе открою.
У Петрика прямо захватило дыханье.
— Честное, благородное пионерское — никому не скажу! — поспешно сказал он.
— Нет, поклянись. Повторяй за мной… — И Лева начал зловещим голосом: — «Пусть меня убьет гром…»
— Лева, — сказал Петрик, — мама мне сказала, что гром никогда не убивает, а только молния!
Глаза у Левы стали круглыми, злыми, и он процедил сквозь зубы:
— Если я говорю гром, значит гром! И не смей меня никогда поправлять. Понял? Ну, повторяй!
Петрик стоял совершенно подавленный. Больше похожий на перепуганного кролика, чем на мальчика-первоклассника. Он крепко вцепился руками в портфельчик, открыв от волнения круглый рот.
— Повторяй за мной: «Пусть меня убьет гром…» — гром, а не молния!..
— «…гром, а не молния…» — покорно повторил Петрик.
— «…если я хоть одному живому скажу…»
— «…живому скажу…»
— «…о великой и страшной тайне…»
— «…великой и страшной тайне…» — повторял Петрик дрожащим и замирающим голосом.
— Теперь слушай!
Петрик порозовел от любопытства и отвернул краешек шапки.
— Ну?
Лева наклонился к самому уху Петрика. Петрик весь замер.
— Нет! — сказал вдруг Лева, резко откинувшись. — Нет! Тут невозможно. Могут услыхать.
— Левочка, — воскликнул Петрик, оглянувшись кругом, — никого нет… только забор!
— Забор?! — Лева значительно посмотрел на Петрика. — Вот именно забор! У забора могут быть уши. Понимаешь? Нет, тут нельзя. Я скажу тебе завтра, на катке.
— Ладно, — прошептал Петрик, не спуская восторженных глаз с Левы.
Он был покорен. Покорен окончательно, бесповоротно и на веки вечные. Кирилка с Опанасом были забыты теперь уж навсегда.
Иметь такого друга! Смелого. Умного. Третьеклассника. Отличника. С такой коллекцией марок. Да еще впридачу с коньками «гаген»!
Весь вечер Петрик мечтал о Леве и о завтрашнем катке. И когда Опанас спросил его:
— Даешь завтра каток? Я, ты, Кирилка…
Петрик холодно ответил:
— Мы идем с Левой.
— Вот и хорошо, — сказала мама, — будете кататься все вчетвером.
— Нет, — сказал Петрик, как ножом отрезал, — я пойду с Левой. Кирилка с Опанасом пусть идут сами.
— Фу, Петрик, как тебе не стыдно? — сердито сказала мама.
— Вот еще! — тоже сердито сказал Петрик. — Как ты не понимаешь?.. У Левы «гагены», у меня «динамы», у Опанаса «снегурки», а у Кирилки ничего нет… И потом нам с Левой нужно кой о чем переговорить…
Опанас стал багрово-красный, запыхтел, исподлобья взглянул на Петрика и закусил губы. У Кирилки обиженно дрогнули ресницы, и он, по своему обыкновению, вздохнул.
Когда мальчики вышли на улицу, Опанас сказал:
— Больше к Петрику ни ногой. Пусть думает, что хочет…
— Его мама такая добрая, — печально проговорил Кирилка.
— Пусть думает, что хочет…
Но Петрик думал только о Леве. Тайна! Какую тайну, великую и страшную, откроет ему Лева?
— Петрик, — сказала мама, — давай немножко поговорим…
— Мама, — сказал Петрик чужим голосом, — я возьму напильник подточить коньки. Можно?
Мама ничего не ответила и удила в другую комнату. Ей было грустно и обидно. Но Петрик, всегда такой внимательный, ничего не заметил.
Если выйти из калитки их садика, в школу нужно было итти направо, на каток — налево. И туда и сюда итти все время было по тротуару прямо, прямо, не переходя дороги. И в эти два места Петрик ходил самостоятельно.
Каток находился в парке заводского клуба.
В мае в парке цвели каштаны, и тогда воздух казался густым от солнечных лучей, запаха розовых цветов и пчелиного жужжания. А когда зацветала акация, лепестки падали вниз, как хлопья снега, а пчелы просто кишмя-кишели возле крупных и тяжелых цветочных гроздей.
Летом же на каштанах висели твердые зеленые орехи с острыми шипами. Их можно было подбирать под деревьями, а еще лучше сбивать палками, когда поблизости не было сторожа. Такими орехами чрезвычайно удобно было стрелять. Но в лоб попадать не следовало: вскакивала шишка величиной с кулак.
Зимой в парке было тихо и очень много снегу. Даже главная аллея, прямая и широкая, была в снегу, на каток приходилось итти узенькой боковой дорожкой, протоптанной между сугробами. Эта тропочка шла под елками и вела как раз к раздевалке с красным флагом и очень громкоговорителем.
Два электрических фонаря качались между столбами. И когда дул ветер, казалось, будто весь каток, со всеми людьми, чуточку покачивается, словно палуба огромного ледяного корабля.
С четырех сторон вместо забора возвышались крутые горы снега, чтобы ребятишки не лазали без билетов. Дальше стояли мохнатые сосны. А еще дальше, за соснами, казалось, ничего не было, кроме темноты и галок.
Петрик с Левой уже пробежали три круга, а Лева еще ни звуком не обмолвился о своей тайне. Наконец Петрик не выдержал.
— Лева, — сказал он, когда на секунду они остановились, — когда же?
— Что?
У Левы непонимающие глаза.
Петрик прошептал еле слышно:
— Про тайну…
— Про тайну?!
Лева бросил на Петрика быстрый, насквозь пронизывающий взгляд.
— Ты обещал на катке.
— Сейчас нельзя. Могут услышать. Музыка заиграет. Тогда.
И они снова покатили по круговой дорожке.
Вообще Лева напрасно хвалился своими «гагенами». Он катался ничуть не лучше Петрика и намного хуже Опанаса. Опанас в два счета мог бы перегнать Леву на своих «снегурочках». Да еще как!
Хорошо, когда навстречу ветер! Острыми ледяными иголочками он покалывает румяные щеки, играет кистями шарфа и безо всякой совести щиплет кончики ушей. Мчишься вперед, глотаешь ветер, и кажется, будто нет на свете ничего вкуснее этого свежего морозного ветра.