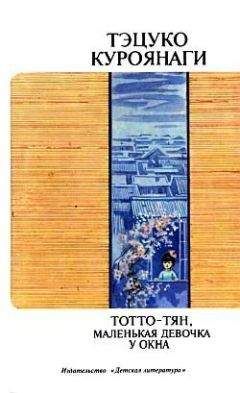хотя бы на руках мужа, отца, сына, — сердечная забота сестер гасила в их душе слабо мерцающий огонек надежды.
Так случилось и с больной, лежавшей в четвертой палате на койке номер восемнадцать. Настала чудесная минута, когда от действия успокоительного лекарства пациентка почувствовала, что боль ее стихла и словно тяжелый груз свалился с груди. Она смотрела на мир как бы сквозь какой-то призрачный покров и, исполненная надежд, думала о муже, о дочери, о предстоящей жизни. Слабая, робкая улыбка играла в уголках ее губ… Что если бы она умерла, так и не рассказав мужу о своей великой тайне? Об этом страшно и подумать! Хорошо, что опасность миновала. Вернувшись домой, она откроет Жозефу секрет и никогда уже не будет поступать так по-детски.
Какая-то волна подхватила ее и понесла между сном и явью, кружа вокруг одной неотвязной мысли. На краешке соседней койки сидела пожилая женщина в грубой больничной рубашке и в шлепанцах на босу ногу. Быстро-быстро заплетая седую жиденькую косу, она наклонилась к неподвижно лежавшей Полине:
— Может, пить хотите, мадам Роста?
— Нет, спасибо.
— Вам лучше, голубушка?
— Да, спасибо…
Заплетая косу, пожилая соседка думала: «Нет, плохи твои дела, бедняжка… Шутка ли — рак легких!..» В палате зажглась слабая лампочка. Началось легкое движение, шарканье ног, как всегда перед ужином; выдвигались ящики ночных столиков, звякали костяные приборы. Вошла толстощекая, краснолицая старшая сестра отделения и, спрятав руки в широких рукавах халата, вперевалочку, как откормленная утка, подошла к койке номер восемнадцать.
— Мадам Роста, — сказала она, — после ужина вас навестит духовник. Подготовьтесь, дитя мое.
Полина шевельнулась, глаза ее широко раскрылись от испуга.
— Зачем? — спросила она, и рука ее задрожала на одеяле.
— Пути господни неисповедимы! — Увядшие губы сестры быстро шевелились, словно она смаковала нечто вкусное. — Наш долг — предаться его воле.
Стало тихо. Затем больная сказала, пытаясь немного приподняться с подушки:
— Дорогая сестра… сначала я хотела бы поговорить с мужем. Пожалуйста, сообщите ему…
— Да, да… Будьте терпеливы, дитя мое.
— Прошу вас, сестра… — прошептала Полина и умоляюще сложила руки. — Прошу вас… мне так нужно… мне необходимо поговорить с ним.
— Ах, милая, — сказала сестра уже с раздражением, — я ведь сказала вам, что после ужина к вам придет духовник. Где я разыщу ночью вашего мужа?
— Сначала мне нужно поговорить с мужем, — упрямо повторила женщина. — Если вы, сестра, думаете, что время еще есть, то духовник… может подождать.
Очевидно, этот спор совсем измучил больную, она без сил откинулась на подушку, пальцы ее беспрерывно шевелились.
Красное лицо сестры от возмущения стало багровым. Какая нечестивица! Духовнику — ждать! Да ведь смерть-то — вот она, у изголовья стоит. Вопрос нескольких часов. Неужели эта простофиля не понимает?
— Не грешите, дитя мое, в столь серьезную минуту. С мужем вы можете встретиться и завтра, если, свободная от всякого земного влияния, удостоитесь милости господней…
— Нет! — Прозрачные пальцы Полины трепетали над одеялом, все ее исхудавшее тело дрожало от ужаса и негодования. — Не нужно мне попа… Спасибо, сестра… Пусть он ко мне не подходит!
— Вы сами не знаете, что говорите! — Красная физиономия монахини исказилась гримасой. — Опомнитесь, дитя мое, и не восставайте против заповедей господа и церкви. Исповедуйтесь в грехах своих…
— У меня нет грехов, — прошептала Полина и, улыбнувшись, покачала головой на подушке. — Мне не в чем исповедоваться. Только с мужем… только с ним я должна поговорить.
— Не вводите меня в грех, вы… — Толстуха окончательно забыла о своей исполненной достоинства осанке и степенности — теперь у кровати стояла обыкновенная старая крестьянка-богомолка. Она яростно жестикулировала, голос ее стал визгливым. «Вы бессовестная тварь!» — хотела она крикнуть, но сдержалась и, перекрестившись, продолжала: — Святой отец образумит вас. Одно только могу сказать: христианке так вести себя непристойно, грешно. Я помолюсь за вас пречистой деве…
— Не стоит… Пришлите мне врача… Он позвонит в Трепарвиль мужу… в партийную организацию… его известят…
— Сказали бы днем, во время обхода! — резко, совсем уже враждебным тоном, сказала монахиня. — Только врачу и дела, что по телефону названивать… Не шуметь! — обернулась она, вся багровая, к больным, которые собрались вокруг кровати и перешептывались, все смелее выражая свое негодование.
Молоденькая, всегда веселая и всегда растрепанная ткачиха, разносившая по палатам все новости и слухи, сказала:
— Какое свинство! Дайте же человеку хоть умереть спокойно.
Кто-то уговаривал ее:
— Не болтай много, слышишь! Чего ты вмешиваешься!..
Сестра-монашка прошаркала к выходу, и сейчас же вошла санитарка с большим подносом, тесно уставленным кружками. Больные разошлись по местам, а пожилая женщина с седой косой присела на краешек койки номер восемнадцать.
— Не волнуйтесь… не верьте вы сестре! Эти ханжи рады бы нас всех похоронить. Они думают, что за каждого почившего в бозе получат на небе особое вознаграждение. Так что и внимания не обращайте, дорогая вы моя. Ведь я-то вижу, что вам легче. Да вы и сами это чувствуете, правда?
Она замолчала и жалостливо глядела на дрожавшую под одеялом фигурку.
— Ах ты, старая карга, сделала-таки свое дело! — прошептала она. — Много ли жить-то осталось бедняжке, но тебе и этого показалось много… ведь она и так уж едва дышит…
Полина вдруг шевельнулась и ухватилась за руку соседки.
— Ну что? Чего хочется, милая? — спросила та хриплым шепотом.
Слышалось звяканье ложек, шумные глотки. Больные ругали жидкий суп. Молоденькая ткачиха заявила, что такую бурду и собака нюхать не стала бы. Девушка больше не решалась взглянуть в сторону кровати номер восемнадцать — ее, как и всех, тревожил ужасный вид смертельно измученной женщины, все были расстроены только что разыгравшейся сценой и старались забыть о ней. Сама смерть их, правда, не пугала — смерть была привычной гостьей в четвертой палате, да и во