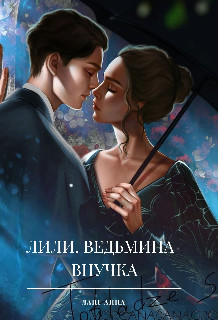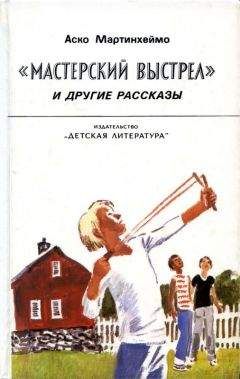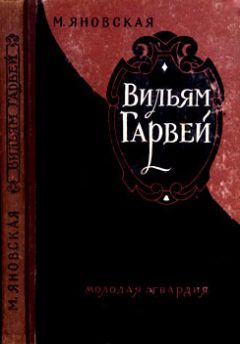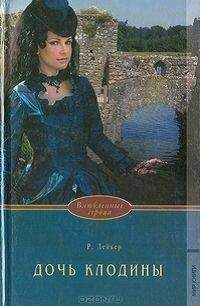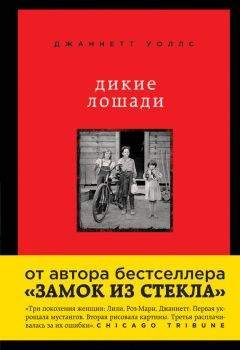страха и проклиная себя. Окружившие его кольцом мексиканские ребятишки расступились.
— Дики, тебе нехорошо?
Какой-то маленький храбрец с плоским лицом индейца сунул ей пачку жевательной резинки и крикнул по-английски:
— Купи, леди! Всего одно песо.
Она протянула руки к сыну, но тут девочка на голову ниже Дики подняла завернутый в черное ребозо сверток, и Луиза увидела сплошь покрытое болячками личико грудного ребенка. Она отпрянула, прижав к себе Дики.
— У тебя спазмы в животе?
Дики молча затряс головой. По щекам его текли слезы. Маленькие мексиканцы с любопытством глядели на них, давали советы, переговаривались между собой, но она их слов не слышала и не понимала. У мальчишки с лотком жевательной резинки были на ногах сандалии, сделанные из автомобильной покрышки, остальные стояли в пыли босиком.
Луиза обняла Дики, стала щупать ему живот.
— Может быть, это аппендицит, давай посмотрим. — Она сама понимала, какую чепуху говорит. — Наверное, ты что-нибудь съел и отравился.
— Нет, я здоров, — прошептал он, дрожа. — Я здоров.
— Тогда в чем же дело?
— Я не могу! — Он уткнулся горячим лицом ей в плечо. — Они же совсем бедные.
Ноги у Луизы подогнулись. Она опустилась на тротуар вместе с сыном.
— Я отдал им все, что у меня было — двадцать семь центов. Я их разделил. Что мне еще было делать?
— Да, милый, да.
Она уже забыла, когда в последний раз плакала так, как плачет сейчас ее сын, беспомощный, потрясенный тем, что он вдруг стал взрослым. Забыла? Да разве это не она сама содрогается от рыданий? Слезы сына оживили совсем почти стершееся воспоминание: умер ее отец — словно кто-то беспечно швырнул в реку драгоценную старинную монету, — и она плачет на груди у Роджера. Этот жизнерадостный спортсмен, легкомысленно смеявшийся над ней за то, что ее волнует судьба каких-то незнакомых ей бедняков, теперь инстинктивно, тончайшим внутренним чутьем, понял, какое горе сотрясает плечи, на которых лежат его руки. А раз он понял ее горе, он не может быть дурным человеком, решила она и в благодарность полюбила его.
— Так трудно все это объяснить, сынок, — сказала она. — Я пыталась, но у меня ничего не вышло. И главное — я не знала, кому я говорю, я не знала тебя. Прости меня. Вот платок, высморкай нос, и пойдем поглядим тебе рукавицу.
— Не нужна мне больше рукавица! Не нужна! Как ты не понимаешь?
Луиза внимательно глядела на сына и думала. Да, кажется, она начинает понимать. И вдруг ее поразила мысль, что лучшим даром Роджера ей было не то, что он когда-то, давно, разделил ее горе, а то, что он передал эту способность разделять чужое горе их сыну. И она снова почувствовала благодарность. Что ж, может быть, теперь, когда она все вспомнила, ей станет легче.
— Я постараюсь понять, Дики, — сказала она, — ты не сердись. Сердиться-то тебе на меня, пожалуй, нельзя, потому что теперь у нас ведь нет никого, кроме друг друга. — Она встала и подняла сына. — Во всяком случае, пока. Идем, сынок, нам пора в Монтерей.
Она уплатила в кассу и, зажав под мышкой сумочку, положила на тарелку сандвич и кусок торта и взяла кофе со льдом. Потом осторожно повернулась, стараясь не задеть тянущихся из очереди рук.
Часы на стене показывали ровно двенадцать. У нее вдруг появилось ощущение, что, сделай она хоть шаг до того, как красная секундная стрелка пойдет вниз, она наколется на острия застывших в вертикальном положении стрелок и провисит на них весь свой обеденный перерыв. Но вот большая стрелка дернулась и прыгнула вправо, и она пошла сквозь пахнущую по́том, гудящую сдавленными голосами духоту к единственному свободному столику. Его черный пластик был залит кофе, в луже мокли увядшие листья салата. Выхватив из стаканчика бумажную салфетку, она вытерла стол и села.
Нужно сосредоточиться, думала она, нужно всеми силами сосредоточиться, и тогда, может быть, ей удастся забыть, что на улице дождь, что пол под ногами засыпан окурками и в нос бьет запах яичницы со старым беконом, а в конторе на 23-м этаже ее ждет одуряющий гул вентилятора перед пишущей машинкой. Она открыла книгу — «Уолден, или Жизнь в лесу» [20] в дешевом издании, глава «О звуках», — подперла лоб кулаком и взяла с тарелки сандвич.
…Иногда летом, после обычного купания, я с восхода до полудня просиживал у своего залитого солнцем порога, среди сосен, орешника и сумаха, в блаженной задумчивости, в ничем не нарушаемом одиночестве и тишине, а птицы пели вокруг или бесшумно пролетали через мою хижину, пока солнце, заглянув в западное окно, или отдаленный стук колес на дороге не напоминали мне, сколько прошло времени. В такие часы я рос, как растет по ночам кукуруза…
— Здесь не занято?
Она недовольно подняла голову. У столика стояли мужчина с усталым лицом и подросток в старенькой куртке. На подносах у обоих были шницель и черный кофе. Какая странная пара, даже трудно поверить, что они пришли вместе.
— Нет, пожалуйста, — ответила она.
Мальчик быстро сел на скамью рядом с ней и набросился на шницель. Мужчина — ему было лет пятьдесят, не меньше, — снял шляпу и с тихим покорным вздохом опустился напротив. Его слежавшиеся под шляпой седые волосы прилипли к вискам. Узкое тонкое лицо с резкими складками у рта заставило ее было решить, что он интеллигент из Старого Света, темные очки подчеркивали это, но руки — большие, мозолистые, с въевшейся грязью — были руками рабочего. Она с досадой подумала, что не может определить, к какому кругу принадлежит этот человек.
— Жанни, мне нужно поговорить с тобой, — решительно начал мужчина.
Сильный иностранный акцент резал ей слух.
Мальчик слизнул с губы каплю соуса и ответил, не переставая жевать:
— Говори, только быстрее. Я очень спешу, я ведь тебе сказал. Считай, что у меня нет перерыва, они там меня каждую минуту требуют. Нужно немедленно бежать обратно.
— Жанни, это очень важный разговор. — Он нервно снял очки и стал протирать их рукавом.
Девушка в смущении опустила голову и демонстративно перевернула страницу. Куда ни придешь, всюду невольно подслушиваешь чужие разговоры, думала она, глядя невидящими глазами в книгу, узнаешь о чужом горе, это еще хуже, чем одиночество, на которое тебя обрекает большой город.
— Ты к ней зайдешь сегодня?
— Да ты что? — Высокий, звонкий голос, голос мальчишки-рассыльного, сорвался. — Еще не