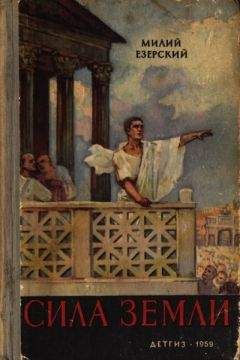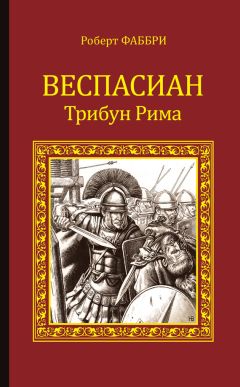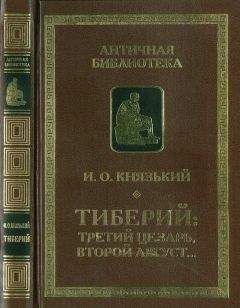— Позови, — согласился Сервий.
Однако врач, пожилой вольноотпущенник, осмотрев Деция, пожал плечами.
— Тут лекарства не помогут, — объявил он. — Нужен покой и сон.
Но покоя не было. Тревога одолевала Деция с каждым днём всё больше и больше, сон бежал от глаз — мерещились рабы и легионеры, расхищающие домашний скарб, подбирающиеся к денариям и сестерциям… Деций слышал треск ломаемых кустов, шаги людей, кричал, вскакивал с ложа.
Вбегала Тукция со светильником в руке, и старик успокаивался, но ненадолго.
Часто приходил Нумерий, но Деций не узнавал его. Нумерий говорил, что восстание рабов ширится, и глаза его сверкали.
Спустя некоторое время Деций перестал узнавать дочь. Потом он впал в беспамятство и вскоре умер.
Сервий и Тукция хоронили его, как бедняка. У двери хижины зеленела обычная кипарисовая ветвь, возвещавшая о трауре.
В атриум беспрерывно заходили соседи, якобы для того, чтобы проститься с покойником. Но Сервий знал, что люди приходили не из любви к Децию, а только затем, чтобы посмотреть, как переносят горе близкие.
По прошествии трёх дней Сервий и Тукция похоронили старика.
С тяжёлым чувством возвращался Тиберий из Испании в Рим. Он вёз мирный договор, заключённый с нумантинцами, разбившими римские легионы, и мысль, что он, Гракх, способствовал спасению нескольких тысяч окружённых врагом воинов, которым угрожала гибель, подбодряла его, хотя он втайне опасался, что сенат не утвердит договора.
Корабль вошёл в устье Тибра, подходил к Риму.
«Вот оно, благословенное богами отечество! — подумал Тиберий, сходя с корабля на набережную и вглядываясь в лица толпившихся людей. — Слава Меркурию, помогшему нам благополучно прибыть к ларам!»
За ним следовал крепкий мускулистый раб, нагружённый вещами.
Мульвий, случайно проходивший мимо пристани, узнал Гракха и бросился к нему.
— Господин, ты вернулся? — воскликнул он, целуя руку Тиберию. И вдруг закричал, обращаясь к людям, находившимся на набережной: — Что же вы… не узнаёте его? Это Тиберий Гракх, наш друг… тот самый, который…
Несколько человек обступили Тиберия. Они расспрашивали его об Испании, о войне с нумантинцами.
Тиберий поднял руку:
— Квириты, я, квестор при консуле, возвращаюсь из Иберии с мирным договором, заключённым нами с неприятелем. Римские легионы были окружены, им грозила гибель, и мы заключили с неприятелем мирный договор: двадцать тысяч ваших отцов и братьев были спасены.
Между тем Мульвий помчался домой сообщить о возвращении Гракха.
Вбежав в кузницу, он бросился к отцу:
— Тиберий в Риме! Он вернулся из Иберии, говорит с плебеями!
Тит бросил молот, потушил горн.
— Беги к Манию! И скорее — на пристань!
Когда Тит, Маний, а за ними и Мульвий подходили к пристани, до них долетели слова Тиберия.
— Если договор не будет утверждён, — говорил он, — жизнь наших воинов опять будет в опасности. Помните, квириты, что двадцать тысяч спасённых воинов — это двадцать тысяч плебеев, таких же ремесленников или пахарей, как вы. Двадцать тысяч ваших отцов и братьев. Я рад, что содействовал этому мирному договору…
Тит и Маний стали пробиваться сквозь живую стену народа, который приветствовал Гракха.
— Пусть живёт Гракх!
— Пусть живёт спаситель легионов!..
Тиберий, пытавшийся остановить крики толпы, почувствовал, как сильные руки подняли его. Он увидел преданные глаза Тита, блестящие, навыкате глаза Мания и чёрные восторженные глаза Мульвия. И тут же замелькали взлохмаченные головы; наконец он уловил слово «мир», повторяемое многими голосами.
«Народ требует мира с нумантинцами», — подумал он.
Тиберий пытался освободиться, но Тит и Маний крепко держали его и несли по направлению к Палатину.
— Эдилы, эдилы! — крикнул кто-то.
— Расходитесь, квириты!
Тиберий не узнал своего голоса. Он почувствовал, что его опустили на землю, увидел, что толпа рассеивается. Вскоре на улице не осталось никого, кроме него и раба с вещами.
Но из соседних улиц доносились громкие крики: «Мир, мир!» И Тиберий, взволнованный встречей плебеев, пошёл вперёд мимо эдилов, оглядывавших его с ног до головы. «Народ меня не забыл!» — хотелось крикнуть ему.
Не доходя до Палатина, он увидел Мульвия:
— Мульвий, почему ты здесь? Я видел тебя на пристани с отцом…
— Господин, зайди к нам.
— Нет, Мульвий, к вам я приду завтра, а сегодня должен быть дома. Но сперва мне необходимо повидать Сципиона Эмилиана.
Мульвий быстро скрылся в переулке.
Выйдя на Палатин, Тиберий подошёл к дому с белыми колоннами и, взяв молоток, постучал в дверь.
— Дома господин? — спросил он появившегося на пороге раба.
Раб низко поклонился, пропуская Тиберия в дом.
Сципион Эмилиан сурово встретил Тиберия на пороге атриума, не обнял его, не пожал руки. Он оглядел его с презрением и сказал:
— Мне всё известно. Зачем ты приехал в Рим с мирным договором, которого ни ты, ни консул не имели права заключать? Зачем возбуждал народ на пристани, похваляясь спасением легионов, подлежавших децимации?[110] Оба вы изменники, и пусть сенат решит, как поступить с вами!
— Публий! Ты не знаешь, что положение вынудило нас…
— Молчи! Я не подам тебе руки, пока сенат не оправдает тебя.
— Я должен был так поступить. Гостилий Манцин не желал заключать мира, но я настоял и отправился к вождю нумантинцев…
— Тем хуже для тебя. А теперь уходи. Я не желаю больше слушать тебя.
Тиберий вспыхнул.
— За меня народ, — запальчиво сказал он, — и я не советую ни тебе, ни сенату ссориться с ним!
— Народ будет делать то, что прикажут отцы государства.
И, отвернувшись от него, Сципион удалился.
Тиберий вышел на улицу. Раб дожидался его у колонны.
«Сципион неправ, — думал Тиберий, направляясь домой, — но от него зависит, кого осудить, а кого помиловать: сенат прислушивается к его мнению, хотя отцы государства не могут ему простить заигрываний с плебсом. Нередко он выступает против сената, становится на сторону плебса, и плебс поддерживает его, благоволит к нему. Нет, он не пойдёт против плебса!»
Мысль о консуле Манцине наполнила его сердце жалостью: он презирал Гостилия Манцина за малодушие, за неумение восстановить крутыми мерами дисциплину в легионах и жалел его как человека мягкого, слабохарактерного.
«В сущности, — думал он, — на моей стороне будет Аппий Клавдий, с которым сенату придётся считаться, а против — Сципион Назика и другие сенаторы».
Тиберий вошёл в атриум родного дома. Его с радостью окружили родные и друзья.
— Ты вернулся, Тиберий? — говорила Корнелия, обнимая и целуя его. — Разве война кончилась?
Не отвечая матери, Тиберий обнял жену, Диофана и Блоссия и лишь затем стал рассказывать, что привело его в Рим.
— Ты поступил правильно, заключив мир! — сказал Блоссий. — Жизнь квирита дороже призрачной славы на поле битвы!
— Тем более, — подхватил Диофан, — что эти двадцать тысяч могли бесславно погибнуть или попасть в плен, стать рабами варваров…
Клавдия тоже была на стороне Тиберия. Только одна Корнелия, сурово сдвинув брови, сказала:
— То, что ты сделал, постыдно: по требованию нумантинцев ты отступил от крепости, сделал другие уступки. А ведь римляне привыкли умирать с оружием в руках! Никогда они не заключали позорного мира с варварами.
Тиберий вспыхнул:
— По-твоему, нужно было умереть?
— Да, умереть, чтобы не делать уступок варварам или не попасть в рабство.
— Что ты говоришь, мать? Плебеи ждут возвращения своих отцов и сыновей, а ты становишься на сторону Сципиона Эмилиана!
— Я не сговаривалась с ним.
— А между тем твои мысли — его мысли.
Корнелия вспыхнула.
— Замолчи! — крикнула она. — Тем более, что ты виноват.
— Мать, что ты говоришь? Ты не жалеешь людей…
— Ты ошибаешься, Тиберий, — я дочь победителя Ганнибала!
— А я стою за справедливость и буду стоять за неё! Никто… даже ты, мать, не свернёшь меня с этого пути!
— Ты не уважаешь своей матери!
— Я уважаю тебя, но иду по правильному пути… Есть вещи, в которые женщины не должны вмешиваться!
Корнелия хотела ответить, но губы её задрожали так сильно, что она не могла выговорить ни слова.
В это время вошёл с улицы Гай и, взглянув с удивлением на Тиберия, воскликнул:
— Вернулся? Совсем вернулся? Хвала богам! — Он бросился к Тиберию, чтобы обнять его, но, увидев бледную, дрожащую мать, отступил: — Ты оскорбил мать?
Тиберий, жалея, что погорячился, подошёл к Корнелии и, целуя её руки, сказал:
— Прости меня, мать!
Но Корнелия не простила: отвернувшись от сына, она медленно вышла из атриума.