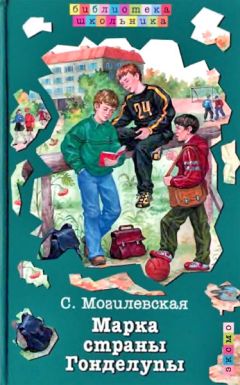— Похожа?.. — возмущенно вскричал Петрик. — Похожа?
И, забыв про клятву и обо всем прочем, он сердито сказал:
— Я выменял ее у Левы… на шведскую серию… Только маме не говори…
Кирилка покачал головой.
— Петрик, — сказал он тихо и укоризненно, — как же ты? Столько марок — и на одну? И без мамы… Такая была шведская серия!..
Петрик вспыхнул. Бросил марку обратно в ящик и дрожащим голосом крикнул:
— Раз ничего не понимаешь, молчи! Эта марка такой страны, которую очень трудно найти на карте… Даже почти совсем невозможно, — у Петрика в голосе были слезы, — потому что они нарочно прячут ее ото всех… У них под каждым деревом, может, по миллиону золота зарыто…
И больше Петрик не сказал ничего.
Кирилка просидел пять минут. Десять минут. Полчаса. Было очень тихо. Можно было подумать, что дома никого нет. В печке громко гудел огонь. А Петрик, шевеля губами, шептал:
— Гонде-лупа… Гонде-лупа… Гонде-лупа…
И водил пальцем по голубым океанам, желтой суше и коричневым горным хребтам.
Тогда Кирилка подумал: если совсем тихонько встать со стула и уйти, то, пожалуй, никто не заметит, потому что каждый занят своим делом и о нем совсем забыли.
И тихий, как мышонок, он встал со стула, положил рядом с Петриком бумажку с уроками и вышел в переднюю. Там он надел курточку, шапку и тщательно завязал шарф. Ведь могла же вдруг выйти сюда Петрика мама, и она бы его похвалила.
Только, видно, она была очень занята. Никто не заметил, как Кирилка вышел, как тихонько закрылась дверь и защелкнулся замок. И только на улице, где мороз крепко царапнул его за нос и щеки, Кирилка почувствовал горькую обиду. И он заплакал.
Пусть даже есть на свете такая страна, которую трудно найти на карте и где золото под каждым деревом, но даже из-за такой страны он никогда бы не забыл про Петрика и не позволил ему уходить на мороз.
Кирилка шел мимо завода, который шумел всегда, даже ночью. Слезы, скатываясь прямо на шарф, превращались в круглые ледяные бусины, и он совсем не обращал внимания на снег, хотя было так похоже, будто при каждом шаге из-под ног выпархивают белые пушистые утята и с писком разбегаются в разные стороны.
Как мог Петрик так поступить?
Кирилке было бы много легче, если бы он знал, как сердилась на Петрика мама, когда вернулась домой и узнала, что Кирилка был и незаметно ушел, оставив на столе бумажку с уроками. Она назвала Петрика мальчиком с холодным сердцем и черствой душой, плохим товарищем, и она сказала, что ей стыдно за него до глубины души. Потом она выбежала на улицу искать Кирилку и вернулась очень расстроенная, не найдя его.
Но Кирилка ничего этого знать не мог. Он стоял в темноте перед высоким и сумрачным корпусом завода и смотрел, как из длинной трубы целыми пригоршнями вылетают искры…
И Кирилка смотрел на искры. Куда они летят? И, может быть, многие звезды, что блестят в высоком холодном небе, это те самые искры, которые успели взлететь за облака?
А что это за страна — Гон-де-лупа?..
Все-таки: где же он видел эту марку, что показал ему Петрик?
Глава семнадцатая. Удар с крыши, или воскресенье утром
Воскресенье в семействе Опанаса начиналось пирогами. С раннего утра спираль дыма, медленно завиваясь, выползала из печной трубы. Это означало, что печь в кухне затопили и мать Опанаса вывернула из кадушки на кухонный стол белый липкий ком теста.
В это воскресное утро у Опанаса, как обычно, пеклись пироги, и предполагалось, что с капустой. Мать Опанаса, Анна Никитична, стояла перед печью в полной боевой готовности, с ухватом в руках, с румянцем во всю щеку и с необычайной решимостью в глазах.
Через несколько минут пироги предстояло вынимать…
За большим столом в соседней комнате в полном безмолвии сидели восемь мальчишек, во главе с папашей Афанасием Ивановичем. Все голодные, молчаливые, сосредоточенные. На кухне было необычно тихо. Ничто не предвещало скорого появления пирогов.
— Гм! — сказал папаша Афанасий Иванович, покручивая хохлатый ус. — Таки треба узнать, как дела.
Он искоса взглянул на Опанаса.
— Ну, — коротко сказал Опанас, в свою очередь бросая взгляд на близнецов, — треба узнать, как дела…
Только одним близнецам разрешалось чуточку приоткрывать дверь в кухню, когда мамаша Анна Никитична занималась пирогами.
Оба сдобненьких близнеца, два румяных колобка, сползли со стульев и покатились к кухонным дверям.
Если главным начальством в доме считалась мамаша, а главным над первым пролетом механического цеха был, безусловно, мастер Афанасий Иванович Чернопятко, то над близнецами главнее Опанаса никого никогда не существовало.
Опанас — это было все. Слово Опанаса было законом. В просьбе Опанасу не могло быть отказа. В отваге Опанаса не было сомнений. Лучше Опанаса не было в мире!
Ни одна собака во всем поселке не была опасна румяным близнецам. Они могли не опасаться даже гусей… Да, гусей они могли не бояться.
Это была взаимная любовь, приносившая каждой стороне равноценные выгоды.
Первые яблоки, пусть зеленые и кислые, кому приносит Опанас? Близнецам.
Самых лучших голубей из бумаги кто делал близнецам? Опанас.
А кто выручал Опанаса, если над ним нависали черные тучи материнского гнева? Близнецы.
И с кем делились они разными лакомыми кусочками, перепадавшими от матери? Ну, конечно же, с Опанасом. Кому еще могли притащить эти пухленькие близнецы обсосанные остатки ирисок, как не своему краснощекому любимому, несравненному Опанасу! Этому храбрецу, смельчаку и драчуну, который, правда изредка, их тоже немного поколачивал. С кем не случается!
Два колобка, переваливаясь на толстых ножках, подкатились к кухонной двери и только собирались толкнуть эту дверь, как вдруг — о радость! — из глубины кухни раздался негромкий повелительный голос:
— Блюдо!
И вслед за этим загрохотала падающая заслонка и чудеснейший в мире аромат печеного теста разлился по всему дому.
— Блюдо! Блюдо! Мама требует блюдо! — завопили близнецы, бросаясь от двери обратно к столу.
— Ого! — произнес папаша Афанасий Иванович, многозначительно поднимая указательный палец. — Це означает чего-нибудь, когда требуют блюдо! А ну, хлопцы, блюдо!
— Есть такое дело! — крикнул старший, Петро, и вскочил с места.
— Будет сейчас блюдо! — крикнул второй, Грицко, и тоже вскочил.
— Мамо золотая, е для вас блюдо! — заорал Андрий, так что воробьи за окном вспорхнули и улетели.
— Блюдо! — кричал Федор.
— Блюдо! — орал Остап.
— Блюдо! — вопил Опанас.
— Мамо требует блюдо! — пищали близнецы.
А блюдо продолжало стоять в буфете, и неизвестно, сколько бы оно там простояло…
Внезапно появилась сама мамаша Анна Никитична.
— Ну-у? — проговорила она внушительно и с расстановкой. — Долго еще придется ждать тое блюдо?
Тут Опанас крикнул:
— Хлопчики, блюдо!
Сам сорвался с места, сам кинулся к буфету, сам вытащил с невероятным грохотом огромнейшее блюдо и сам принес его в кухню.
А пироги уже лежали на столе во всем блеске своей величественной красоты.
— Что за пироги! — прошептал Опанас и причмокнул языком. — Два? Треба второе блюдо?
— Треба! — сердито сказала мама Анна Никитична, укладывая с великой осторожностью пирог на блюдо.
Это было торжественное шествие.
Впереди — мамаша Анна Никитична с одним пирогом.
За ней — старший сын Петро со вторым пирогом.
За Петро — Опанас с ножами и вилками.
За Опанасом — близнецы с ложками.
Самым последним трусил щенок Тяпка. Он, разумеется, был голоден и тоже рассчитывал на свою долю пирогов.
Полдесятого пирог только что поставили на стол. А когда голубые ходики показывали без чего-то десять, на столе, кроме пустых тарелок и кружек, грязных ножей и вилок, стояло еще два синих фаянсовых блюда, однако тоже совершенно пустых. Хоть бы горбушечку оставили!
Примерно в то самое время, когда в Опанасовом семействе с пирогами было покончено, в доме Петрика к ним только приступали.
Как любил Петрик воскресное утро! Все казалось каким-то совершенно особенным, даже солнце светило иначе, даже небо было другое, даже цветы на подоконниках казались в тысячу раз красивее… А уж о папе и говорить нечего!
Папа по воскресеньям бывал прямо необыкновенным. Целое утро он пел «Куда, куда вы удалились?» И хотя эту очень грустную песню Ленский поет перед дуэлью с Евгением Онегиным, а потом его, бедняжку, убивают насмерть, у папы по выходным «Куда, куда вы удалились?» получалось до того веселым, что Петрику хотелось кувыркаться или, в крайнем случае, походить на руках вниз головой.
По воскресеньям Петрик и папа — одно неразрывное целое. Что папа, то и Петрик. Папа просыпается — и Петрик просыпается. Папа одевается — и Петрик одевается. Папа чистит зубы — и Петрик тут как тут. Папа приглаживает волосы головной щеткой — и Петрик не отстает. Раз нет второй головной, можно платяной…