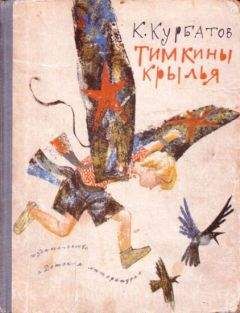Дерматиновая папка лежала на своем месте, сразу под крышкой. Наверно, дядя Жора и не заглядывал в чемодан с тех пор, как показывал ее мне.
Засунув чемодан обратно, я осмотрелся и прихватил с собой принца Гамлета. В конце концов, я сам нашел этого принца, когда мы возвращались с дядей Жорой из бани.
Из деревянной рамки за мной внимательно наблюдал Горбовский. Он, наверно, удивлялся, как это здорово я сумел перехитрить Серкиза и спасти бумаги.
В последний момент я зажал еще под мышкой чурку с Любиными глазами. Зачем мне понадобилась чурка, сам не знаю.
Я спустился обратно в погреб и насыпал ведро картошки.
Мама гремела на кухне кастрюлями.
Дерматиновую папку я плотно запеленал в целлофан и упаковал в цинковую коробку от патронов. Я слетал на мыс Доброй Надежды, вырыл под почтовым камнем яму и упрятал туда коробку.
Принца Гамлета я оставил в укромном уголке подвала. А чурку с глазами завернул в «Известия» и отнес Любе.
В Доме офицеров стояла тишина. В прохладном полумраке фойе, откуда вчера унесли дядю Жору, еще пахло хвоей и цветами. Под стеклянным футляром летел остроносый эсминец. Над ним улыбался со стены вышитый шелковыми нитками Герой Советского Союза лейтенант Гром.
Юхан Паю сидел на столе в своей комнатушке и обметывал петли у новенького синего кителя. Он обметывал петли и что-то мурлыкал себе под нос. На длинном столе валялись обрезки материи, большие черные ножницы и плоские, словно камешки на море, кусочки мела.
Из парикмахерской несло одеколоном и мылом. Я заглянул в открытую дверь и поставил в угол при входе завернутую в газету чурку.
— Что это? — спросила Люба, не оборачиваясь. Она смотрела на меня в зеркало.
Люба брила какого-то офицера с прямым, как у древнего грека, профилем. Раньше я не встречал у нас этого древнего грека. Но он был ничего себе, представительный. Закинув голову, представительный грек разглядывал Любино лицо. Он, наверно, приехал из штаба флота. Плечи его закрывала салфетка, и я не видел, кто он по званию. Но и так было ясно, что он — начальство.
Вслед за бритвой Люба водила по щекам и подбородку начальства пальцами. Проверяла, хорошо ли выбрито. Пальцами она водила так, словно ласково гладила. И губы ее чуть-чуть улыбались. И красиво нарисованные глаза — тоже.
— Эх, люди! — вздохнул я и хотел забрать чурку обратно.
Но Люба перестала гладить древнего грека, обернулась и толкнула меня локтем. В руке она держала открытую бритву.
— Ну? — сказала Люба.
Губы ее улыбались, а в красивых глазах дрожали слезы.
Я выскочил из Дома офицеров и побежал домой. Над островом ревели самолеты. Затихая и усиливаясь, плыл гул с аэродрома и стоянки, где опробовали двигатели. Все было, как всегда. И полеты, и солнце, и трава. Не было только дяди Жоры. И никого это не касалось, что его уже насовсем нету.
После обеда, еще не успели закончиться полеты, как я увидел в окно подполковника Серкиза. Я сидел у окна и проверял пальцем остроту колючек у кактуса. Кактус потихоньку подрастал, и колючки твердели.
Серкиз шагал точнехонько по направлению к нашему дому. В кулаке у него были зажаты перчатки.
В кухне подполковник кивнул маме и молча прошел к соседской двери. Он сорвал пломбу и закрылся в комнате дяди Жоры. Я ждал Серкиза. Ждал целый день. Я даже боялся, что он вдруг не придет. Но он пришел. Я оказался прав. Это он! Точно! Это он украл бумаги! Он!
Я на цыпочках подкрался к двери. За ней было тихо. Потом мне послышалось, как поскрипывают половицы и будто выдвигают из-под койки чемодан. У меня оборвалось сердце.
— Тима, — недоуменно прошептала мама, прижав к подбородку кухонное полотенце.
Я замахал на нее, чтобы она замолчала. Я представил, как Серкиз откроет сейчас чемодан и увидит, что папка исчезла. Вот он, наверно, выкатит от злости глаза, когда увидит, что нет папки!
Выскользнув мимо мамы на улицу, я прокрался к окну, в которое не раз залезал, наведываясь к дяде Жоре. Подполковник, сгорбившись, сидел на табуретке. Опустив руки между колен, он машинально мял перчатки. Время от времени он поднимал глаза к стене, на которой висела фотография в деревянной рамке. Он ворочал своими рачьими глазами и хмурился. В глазах у него появилось что-то усталое и виноватое.
Он! Он! Теперь я ни на секунду не сомневался, что это он! Чего бы ради подполковник стал смотреть такими глазами на фотографию Горбовского? Он и на живых-то никогда не смотрит такими глазами.
Серкиз ворочал глазами и все мял и мял перчатки. Вдруг сделалось совсем тихо, даже зазвенело в ушах от тишины. Это смолк на стоянке последний двигатель. И стало слышно, как гремит цепь на колодце, брешет где-то собака и плачет грудной ребенок.
Серкиз поднялся, обвел тяжелым взглядом комнату и, сморщившись, потер пальцами щеку, словно у него заныли зубы.
Со стола, подкатившись к краю, упало долото. Он посмотрел на него, но не поднял. Он снял с полки балерину, повертел ее в руке и сунул на место.
Из своей засады я видел, как подполковник вышел из нашего дома на дорогу и повернул к штабу. Он ни в чем не изменился. Он был все такой же прямой и лощеный. И все же что-то сломалось в нем. И я знал, что. У него лопнула последняя надежда раздобыть бумаги с расчетами орнитоптера.
Вечером в Дом офицеров привезли новый итальянский фильм. Детей до шестнадцати лет на него не пускали. Эдька залез в окно костюмерной и открыл нам с Киткой запасной вход, которым обычно пользовались приезжие артисты. Мы вошли и закрыли за собой дверь на крюк. До начала фильма мы сидели на темной сцене за тяжелым плюшевым занавесом. Мы просидели там и киножурнал. Когда во второй раз погас свет, мы выбрались из укрытия и заняли свои законные места на полу у сцены.
Длинноногая Софи Лорен целовалась с главным героем. Эдька сразу подметил, что ноги у нее растут прямо из подмышек. Она целовалась старательно и серьезно, словно делала важное дело. С таким же точно умным видом носастый лейтенант Котлов закатывал под койку пустые бутылки. Пышные волосы Софи Лорен развевались по ветру. Она ругалась с главным героем и целовалась с ним снова. Потом, когда у них уже было три взрослых сына, они поженились. Картина так и называлась: «Брак по-итальянски».
На улице за рекой и бумажным комбинатом горело заходящее солнце. Заметно посвежело. Толпа веером растекалась от Дома офицеров. И тут я увидел Любу-парикмахершу и рядом с ней того самого древнего грека. На плечах у древнего грека поблескивали погоны майора.
— Вон он, этот, — буркнул я.
— Двинули, — сказал Эдька.
Мы догнали майора. Эдька перерезал ему дорогу. Китка мялся сзади меня. Люба прикрыла рот наброшенным на голову черным платком с яркими маками. Это был тот платок, в котором она остановила тогда нас с дядей Жорой у колодца, когда мы возвращались из бани.
— Простите, товарищ майор, — решительно сказал Эдька, — вам не дует?
— Что такое? — нахмурился древний грек.
Люба обернулась и увидела меня с Киткой.
— Это мои, — сказала она. — Спокойной ночи, товарищ майор.
Я вам о них рассказывала. Спасибо вам большое. Меня ребята проводят.
Мы молчали до самого Любиного дома. Нам почему-то было стыдно. Люба походила на Софи Лорен. У Любы тоже были длинные ноги и пушистые темные волосы. Мы вели ее, словно под конвоем. Нас было трое. У героини, которую играла Софи Лорен, было тоже трое сыновей.
— Ну? — улыбнулась у своего крыльца Люба. — Теперь шагайте спать, кавалеры.
Мы отправились спать.
От падающего к горизонту солнца все вокруг было оранжевым, точно я смотрел на дома, столбы, дорогу и небо через цветное стекло. Я брел коротким путем, через пустыри и огороды с картофельной ботвой. На куче песка возились детишки, сооружали крепостные стены и подземные переходы. Четырехлетний карапуз Борька, сын заместителя начальника штаба, кружил вокруг кучи на трехколесном велосипеде. Взрослые у нас по ночам занавешивали окна одеялами и спали. А детишки летом сбивались со всякого распорядка. Поди разбери тут, когда ночь, а когда день.
На бревнах за нашим домом сидели в обнимку оранжевые Руслан и Феня. Они не заметили меня. Вид у них был еще умнее, чем у носастого Котлова, когда тот закатывал под кровать бутылки.
Я специально прошел рядом с бревнами. Меня прямо затрясло от злости. Я ненавидел подполковника Серкиза, похожего на грека майора, пижона Руслана Барханова и собственную сестричку. Я ненавидел всех.
— Тим, — негромко окликнул меня Руслан.
Я не отозвался. Я прошел с опущенной головой и в сердцах рванул на себя дверь в сени.
— Индюк-то этот голубоглазый собирается на Фене жениться, — сказал я. — Мы тогда с ним родственничками станем.