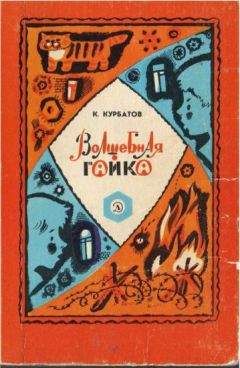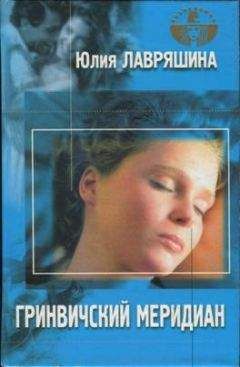Вон почему. Глянь на Ивана — и все поймешь. В глаза ему посмотри.
Лежал на нарах гвардии рядовой Григорий Портнов, чувствовал рядом теплый бок Ивана Володина и подбадривал себя шуткой. А у самого скребло и скребло на сердце. Перед боем завсегда у солдата скребет. У любого. Даже, наверное, и у Вола скребло. Хотя он вон какой! Да еще в свой первый бой идет. И горького опыта еще не имеет. У Вола другой опыт. Похожий. Почти такой же, да не совсем такой.
Уже под вечер в прокопченную духоту землянки заскочил старшина, напустив под нары морозного пара. Фитилек коптилки на сплющенной гильзе заметался, зачадил черными хлопьями. Печурка в центре землянки прогорела, малиновые угли в топке уходили вглубь, гасли. И никому не хотелось слезать с нар, чтобы подбросить дровишек.
— Совсем обленились, дьяволы, — беззлобно ругнулся старшина. — Позамерзнете — пальцем не шевельнете.
И сообщил приказ: ночью их первую роту выдвигают в боевое охранение.
Нары от такого неожиданного приказа враз ожили, зашевелились. Кому это захочется — ночью на мороз да еще впритык к самому бою.
— Всё, амба, — проговорил в остывающую темноту землянки Гриша Портнов, — понежились на пуховых перинах с мягкими подушками, теперь собирайсь, солдат, ночью стылую землю горячим пузом отогревать.
Проговорил это Гриша Портнов совсем негромко и вовсе не в адрес старшины, и даже не для бойцов, ворчащих по нарам. А так, единственно для самого себя, в силу своего такого уж говорливого характера. И старшина, по голосу знавший всех бойцов, и конечно же, угадавший, кто мог травить про пуховые перины с подушками, тоже это понял и на сказанное внимания не обратил. Лишь уходя и уже приподняв загрубевший и ломкий от мороза брезентовый полог у входа в землянку, за которым синел тающий день, сказал:
— Дневальный! Кто здесь сегодня дневальный? В сей момент подняться и расшуровать печку! Чтоб вам кисло было!
От таких строгих слов Гриша лишь плотней закутался в полушубок и повернулся на другой бок. Потому как ни он, ни его молчаливый друг-товарищ Иван Володин не были сегодня дневальными по отделению.
Уже и сладкий сон с какими-то очень приятными, но будто смазанными картинками поплыл на Гришу. Родная деревня Приозерье. Мама на деревянной лопате капустный пирог держит. Гриша — к пирогу. А тут воробьи налетели, видимо-невидимо. Враз склевали пирог. Гриша бежать за ними, а на крыше избы возле трубы сидит корова Манька и слизывает с дранки вишневое варенье. Гриша ее за хвост: «Не смей, оставь мне». А она мычит: «Мотай отсель, пока не забодала». Совсем какой-то глупый сон. И главное, Гриша отлично понимал, что все это не на самом деле, а сон. Понимал, но все равно смотрел. Потому что интересно. Тут как раз Иван и толкнул Григория в бок.
— Подсушиться бы, Гриш. Портянки небось в валенках все попрели. А на улице — видал? — заворачивает. Как с такими портянками в ночь?
На улице действительно все крепче заворачивал мороз. И это каким-то образом угадывалось даже здесь, в жаркой землянке с вновь загудевшей в центре печуркой.
Солдатские портянки и подпаленные, отдающие жженым волосом валенки со всех сторон тянулись к огню.
— Добьем врага сухой портянкой! — бодро возвестил Гриша, и друзья полезли с нар.
Утром дивизии предстояло рывком преодолеть широкую, закованную в лед реку и на той стороне с ходу прорвать сильно укрепленную линию обороны противника. К выполнению задачи, поставленной верховным командованием, готовились уже больше месяца. Не знали лишь сроков — когда начнется. Теперь узнали — завтра. Ранним утром. Перед броском намечена двухчасовая артподготовка. Две тысячи орудий и минометов должны ударить по переднему краю врага, по трем линиям его траншей, по огневым точкам, по крутому берегу, чтобы разрушить ледяной наст.
А потом поднимется царица полей пехота. Без нее никакой бой не бой. Она, пехота, вершит дело, ставит в любом сражении последнюю точку. И понимал сейчас в землянке каждый солдат: завтра только бы добежать до того берега. Только бы добежать. Там проще. Фриц, он ведь тоже кумекает. Высветит реку ракетами — что тебе солнечный день. И примется долбать из всех видов оружия по бегущим. Ты туда бежишь, а навстречу тебе и мины летят, и снаряды, и пули без числа и счета. Только знай держи ушки на макушке да поворачивайся.
Три раза ходил уже в атаку Гриша Портнов. Два раза до ранения, последний — уже после госпиталя. Три раза — это много. Иван Володин еще ни разу в том пекле не был. А Гриша, считай, ветеран. Сколько их, кто тремя атаками похвалится? Одна атака — и то много. Вышел из нее живой, увернулся от пуль и осколков — считай, герой, считай, заново родился.
Гриша три раза родился заново, три раза прошел сквозь пули, трижды смотрел в самые зрачки окаянной смерти. И увидел, что не так она страшна на самом деле, как ее малюют. Вот ждать ее, загребущую, готовиться к ней — тут хуже. Не к смерти, естественно, к атаке. Тут хошь не хошь, а скребет на сердце. Сидит босой Гриша Портнов у пышущей жаром печурки, сушит портянки, блаженно шевелит-ворочает пальцами ног, балагурит с солдатами, а у самого скребет. Сам во всей своей беззаботной шутливости здесь, а нутром уже вроде там, под шальным вражеским огнем, на льду нескончаемо широкой русской реки.
Язык свое травит, а душа, будь она неладна, просится и просится в голые Гришины пятки. Видится ей, душе, в подробностях все, что предстоит поутру. Как нужно будет встать почти во весь рост и побежать прямо туда, откуда полетят в тебя пули. Как нужно будет без устали бежать по глубокому снегу, не слыша надрывного посвиста пуль и взрывов снарядов, не желая верить, что где-то там заготовлен во вражеском диске кусочек свинца и персонально для тебя, для Гриши Портнова. А чтобы не верить во все это, чтобы ничего не слышать и не видеть, главное не отставать, не споткнуться и как можно громче кричать «ура».
Раньше, до своей первой атаки, Гриша думал: «ура» кричат, чтобы запугать врага. Оказалось, «ура» в первую очередь помогает самим атакующим. С «ура» попросту легче бежать. Бежать и слышать только своих, орущих во всю глотку друзей. Набрал полную грудь воздуха, выскочил из окопа и выбросил впереди себя победное «а-а-а…», которое сразу становится неотделимым от общего «ура» и которое совсем не слабеет, если кто-то падает и обрывает дружно взятую ноту стоном или вечным молчанием.
Недавно на политинформации Гриша Портнов с самым серьезным видом удружил замполиту, старшему лейтенанту Крамерову, вопросик, на который, по его, солдатскому, разумению, не ответил бы и сам начальник политотдела дивизии. На всякие вопросы отвечал старший лейтенант Крамеров, а уж на этот никак не должен был ответить. Наисложнейший получился вопросик, непробиваемый.
— Почему, товарищ старший лейтенант, — спросил Гриша, — когда наши бойцы в бой идут, они «ура» кричат? Ни «бей его, гада!», ни «громи его, такого-разэтакого!», а «ура!» и «ура!». Откуда взялось такое непонятное слово — «ура!»?
Но ведь вывернулся старший лейтенант. Пораздумал маленько и вывернулся. Да еще как!
— От наших далеких предков пришло к нам «ура», — сказал он. — Наши предки, как и мы сегодня, бились с врагами за свою свободу, честь и независимость, как и их отцы, деды и прадеды. А их, далеких предков своих, славяне называли «пращурами». И в бой они шли с криком «за пращура!». Вот и осталось нам в наследство от тех давних времен сокращенное до трех последних букв славянское «ура».
Ну, старший лейтенант! Ну, хитер! Сразу видно — настоящий политический работник. Нужно ведь, как ловко придумал. А он так и должен, ежели политический. Не дала общими фразами, а четко, конкретно и убедительно. На самом, так сказать, живом и сегодняшнем материале. Чтобы силы бойцу прибавило, чтобы помогло ему громить фашистскую гидру.
— А мы ведь в бой и вправду за своего пращура идем, — удивленно качал тогда головой Ваня Володин. — За того, кто Чингисхана бил, Наполеона, кто революцию делал… Значит, выходит, и за отца моего. Правда, Гриш?
Отца своего Иван вообще-то не помнил. Тот умер, когда сын еще качался в люльке. Умер от туберкулеза легких, заработанного в царских тюрьмах и ссылках. Всего восемь лет прожил человек при Советской власти, за которую боролся всю свою жизнь. Умер и оставил молодую жену с малым ребенком.
Так они и прожили вдвоем, мать с сыном, до самой войны. Иван собирался после школы поступить в архитектурный институт. Да на девятом классе споткнулось его ученье. Добровольцем на фронт не взяли — мал. Послали под Ленинград копать противотанковые рвы. Осенью вернулся домой, а в городе уже хлеб по карточкам. И с каждым днем норма все уменьшалась и уменьшалась. До ста двадцати пяти граммов дошло. Электричества нет, дров нет, водопровод и канализация не работают. Все насквозь промерзло.
О той недавней страшной зиме Иван рассказывал Григорию с тихой грустью. Он считал, что они с мамой выжили во многом благодаря папе. Какая-то огромная внутренняя сила досталась маме в наследство от папы, говорил Иван. Тот, кто разуверялся, что выстоит, погибал в первую очередь. А они верили. И еще — рядом была Нева, вода в проруби. Как ни странно, вода в блокаду тоже стала немалой ценностью. Особенно для тех, кто жил далеко от нее. Они жили рядом, на берегу, в доме, который ленинградцы называли Домом политкаторжан, называли так потому, что построен он был специально для тех, кто пострадал в царских тюрьмах и ссылках, кто делал революцию. Это в самом центре города, рядом с Кировским мостом и Петропавловской крепостью, на площади Революции.