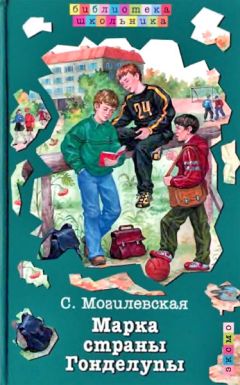Но Кирилка не обратил внимания на это значительное движение Петрика. Ему было не до того. После вопроса пионервожатой Зины о теткиных деньгах он снова вспомнил про сдачу — двадцать восемь рублей двадцать пять копеек, — забытую у продавщицы (или потерянную!), и помертвел от ужаса.
Что делать ему через сорок минут, когда кончите этот последний урок? Куда он пойдет? Куда?
Только не домой… только не домой… только не домой…
Но куда же?
Очень неясно, словно сквозь пушистую завесу падающего снега, ему представлялось одно чудесное место… Его там, наверное, хорошо встретят… «Ну вот, опять руки в чернилах… и шарф совсем плохо завязан… Ах, какой ты!» скажет ему Петрика мама. А может, она еще скажет так: «Хочешь, Кирилка, оставайся у нас, пока с Севера приедет твой отец?» А потом она скажет: «Вот и отлично, теперь у меня два мальчика — Кирилка и Петрик». А потом они сядут за стол, и лампа будет гореть под зеленым абажуром, и они будут все вместе делать уроки — Кирилка, Петрик, Опанас и мама… И он ни за что не сделает ни одной кляксы… А потом она, Петрика мама, скажет…
Когда учительница Клавдия Сергеевна назвала Кирилкину фамилию, Кирилка не очень-то хорошо соображал, что ему нужно делать. Он был очень далеко. В той маленькой столовой, где так нежно пиликает на своей скрипочке сверчок и так ярко сияет лампа под зеленым абажуром.
— Тебя к доске, тебя к доске! — где-то позади раздается голос, кажется, Опанаса.
И Кирилка, больше по привычке глубоко вздыхая, бредет к доске.
— Напиши таблицу на четыре, — слышит он другой голос; кажется, это говорит учительница Клавдия Сергеевна.
И он покорно берет в руки мелок.
Вот он стоит перед доской, теребит руками мягкий белый камешек, и меловая пыль, осыпаясь, летит на пол, на курточку, оставляя полосы на обшлагах. Он молчит и смотрит на Клавдию Сергеевну широко открытыми немигающими глазами.
Таблица на четыре?
Таблица на четыре?
Разве он когда-нибудь знал таблицу умножения на четыре?
Неужели ты забыл, Кирилка? А окна в школе? Помнишь, как замечательно ты решил задачу с окнами на четырех этажах? А ведь там было как раз умножение на четыре. Неужели ты забыл, Кирилка? Ну, вспомни же… вспомни…
— Ну, Кирилка, — говорит Клавдия Сергеевна, — что же ты не пишешь? — И она пристально, не спуская глаз, смотрит на Кирилку.
Она бы рада помочь ему. Но он обязан самостоятельно вспомнить таблицу умножения на четыре. Ведь они проходили совсем недавно. И потом она прекрасно помнит, как хорошо отвечал Кирилка именно таблицу умножения на четыре.
Клавдия Сергеевна перелистывает школьный журнал. Конечно. Против Кирилкиной фамилии стоит отличная отметка. А в тот день они как раз повторяли таблицу на четыре. Что с мальчиком?
— Или ты уже успел забыть? Положи мелок. Ты весь испачкался.
Голос у Клавдии Сергеевны строг. Она всегда очень справедлива. И если она сердится, значит есть за что.
Но Кирилка молчит. Он просто не может выдавить из себя ни одного слова.
— Давай повторим вместе, — говорит Клавдия Сергеевна. — Ну, четырежды два… сколько?
И хотя весь класс хором шепчет ему: «Восемь!» — Кирилка молчит. Сейчас он даже вздыхать не может.
Клавдия Сергеевна тоже молчит. Что с ним? Сколько труда и терпения понадобилось, чтобы этот мальчик пошел наравне с классом, чтобы он перестал робеть и пугаться…
Очень помогла ей дружба Кирилки с Опанасом и Петриком. С тех пор как мальчики подружились, Кирилка стал просто неузнаваем. В эту четверть она была в нем совсем уверена.
Что же с ним случилось?
Вот он стоит у доски, похожий на прежнего Кирилку. Бледный, испуганный, упрямо сжав губы, с широко раскрытыми отсутствующими глазами.
— Петрик Николаев, — вдруг говорит Клавдия Сергеевна, — разве вы больше не готовите вместе уроков?
Петрик вспыхивает. Он совсем забыл о своем обещании помогать Кирилке до самой весны. Как он мог об этом забыть? Он исподлобья смотрит на Клавдию Сергеевну и молчит.
— Почему ты не отвечаешь? — совсем строго спрашивает Клавдия Сергеевна.
— Мы больше не готовим вместе уроков, — говорит Петрик очень медленно и очень тихо, опуская глаза.
— Почему же?
И вдруг обида со страшной силой охватывает Петрика. Как! Они над ним смеются, они не хотят с ним дружить; они не хотят с ним даже разговаривать, а он еще должен… Нет, он не будет.
— Вот еще! — сердито говорит Петрик. — Не хочу я вместе готовить уроки! — И мрачно прибавляет любимое выражение Левы: — Тысяча чертей — и все!
Неужели это Петрик Николаев? Примерный ученик? Всегда такой воспитанный и деликатный? Неужели он мог так ответить учителю?
В классе становится необычайно тихо. Так тихо, что Петрик ясно слышит, как громко и тревожно бьется его собственное сердце.
Клавдия Сергеевна закрывает классный журнал и встает. Она немного бледна.
— Петрик Николаев, — говорит она, — что с тобой? Я тебя не узнаю. Как ты можешь так разговаривать? Тебе не стыдно?
И Петрик, готовый от стыда провалиться сквозь пол, молчит. Ему так стыдно, что он готов заплакать, но он молчит.
— Передай своему отцу, чтобы завтра он пришел в школу… Мне хочется с ним поговорить.
И тут на Петрика находит.
— Сами говорите ему!.. — кричит он дрожащим от слез голосом. — У моего папы нет времени расхаживать по всяким школам.
Это уж слишком. Никогда ничего подобного не случалось в первом классе . А».
— Тогда пусть придет твоя мама, — говорит Клавдия Сергеевна, стараясь быть такой же спокойной, как обычно (но как ей трудно это сейчас!), — а ты сам выйди из класса и… лучше уходи домой…
Последнее, что чувствует Петрик, когда, низко опустив голову, проходит перед двадцатью партами первого класса . А», это взгляд осуждения и порицания, которым провожают его ребята до самых дверей.
И последнее, что он видит, это глаза Кирилки, полные испуга и жалости, и красные щеки Опанаса, с которых медленно сползает румянец…
Петрик плохо помнил, как оделся, как шел по улице, как подошел к садовой калитке. Ему все время хотелось только одного: скорее, скорее, как можно скорее домой, к маме. И ему все казалось, что ноги у него идут ужасно медленно и портфель оттягивает плечо…
Он пришел. Сейчас он нажмет звонок. Сейчас мама ему откроет. И как сказать? Нет, он не может. Он помолчит до завтра. А завтра пусть лучше в школу пойдет отец, пусть лучше он как следует накажет Петрика…
Петрик нажимает кнопочку звонка. Получается такой несчастный и жалобный звук!
Но мама услыхала. Вот ее шаги. Она торопливо бежит, постукивая тоненькими каблучками. Щелкает английский замок. Дверь распахивается. Вот она сама. Немного озабоченная. Ее лицо. И нежные глаза. Вот ее голос. И сразу тысяча вопросов.
— Петрик, ты? Почему так рано? Я не узнала твоего звонка. Было только три урока? Какие отметки? А Кирилка? Снова не пришел?
И вдруг она видит его несчастные глаза, полные слез, и побледневшие щеки.
— Петрик, — тихо говорит она голосом ужасной тревоги, — Петрик, что случилось? Петрик…
Разве можно от нее что-нибудь скрыть?
— Мама, — говорит Петрик рыдая, — мамочка, я сделал ужасную вещь… меня прогнали из школы…
Глава двадцать третья. Незнакомец в мохнатых сапогах
Что и говорить, это был суматошный денек!
Драка с Левой — раз. Разговор с пионервожатой Зиной — два. Ужасный случай с Петриком — три. И в довершение всего Кирилка незаметно исчезает из школы, даже не предупредив об этом Опанаса. Хорошо, что Зина сказала, чтобы они пришли к трем часам: можно успеть пообедать и еще сбегать за Кирилкой.
Опанас сердито посапывает, возвращаясь из школы, может быть, впервые за всю зиму в полном одиночестве.
Вообще для Опанаса решительно все было настолько ясно, что раздумывать над чем-нибудь не было никакого смысла. Что касается некоторых неясностей, то рано или поздно все непременно выяснялось, так что и на них не стоило тратить труда.
Но когда идешь домой совсем один и рядом нет даже любимого щенка Тяпки, разные мысли сами собой лезут в мозги, и приходится думать. Ничего не поделаешь…
Зачем, например, он сцепился с Левой? Из-за Петрика. Но ведь с Петриком они поругались на всю жизнь. И теперь разве ему, Опанасу, не все равно, обманул Лева Михайлов Петрика Николаева или не обманул? Почему же у него зачесались руки? И почему он не мог не крикнуть Леве «вор» и «дрянь»?
Все это в высшей степени непонятно.
И еще было неясно другое: как мог Петрик так гадко сказать Клавдии Сергеевне? Как он посмел? И почему?
Все эти вопросы очень волновали Опанаса, и Опанас даже не обернулся, когда толстая продавщица из «Гастронома», увидев его, крикнула на всю улицу:
— Мальчик! Мальчик! Выжди…
Опанас даже головы не повернул. Он шел, глубоко задумавшись, мрачно сдвинув черные брови, и раздувал щеки, будто играл на трубе.