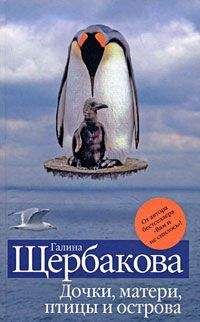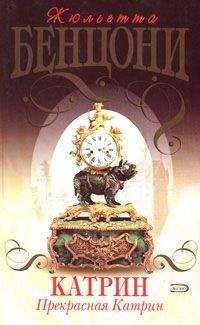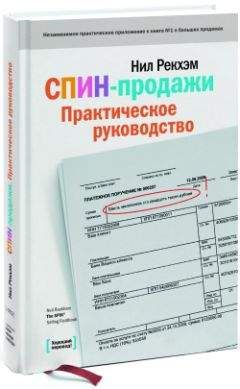Осторожно, чтобы не разбудить Верочку, выбралась Катя из палатки. «Я как невидимка, — сказала она себе. И радовалась тому, что именно сейчас на ней старые темно-синие спортивные брюки: — Меня совсем не видно!»
И тут вдруг она натолкнулась на Станду, который сидел на корточках рядом с палаткой мальчиков.
— Тс! — зашипел он. — Чего ты тут бродишь? Нам не нужны пугала. Это у богатых было свое привидение — Белая дама!
— А я — темно-синяя, как ночь, — сказала Катя и уселась рядом с ним. — А ты что тут делаешь?
— Взгляни-ка! — Он протянул ей длинный латунный бинокль. Этот бинокль лежал без дела в дедушкиной библиотеке. Теперь его забрал Станда и наблюдал с его помощью Луну.
— Какое чудо! — Катя была в восторге. Она видела горы и долины, причудливые дикие скалы. Это было прекрасно, но грустно — видеть одни безжизненные камни. Катя смотрела в бинокль: — Станда, Станда, посмотри, какое красное мерцание! Это удивительная звезда. Гаснет и загорается, словно сигналит. Жаль, что только Енда в этом разбирается. Что она может излучать, эта звезда?
— Постой! — Станда делал вид, будто расшифровывает какие-то сигналы: — «Пре-кра-ти-те бес-смыс-лен-ную болтов-ню Ка-те-ржи-ны Ян-до-вой, или мы сбросим метеор!»
Катя не обращала внимания на его остроты.
— Станда, а правда, что на других планетах тоже живут люди? Может, как раз на этой красной звезде сидит девочка и смотрит на Землю…
— Ладно, хватит! — Станда уже всерьез разозлился. — Хватит, а то я закричу и всех разбужу! Люди на других планетах! И конечно — девчонки. Вы бы всю Вселенную хотели заполонить девчонками, чтобы можно было с ними переписываться: «Пионерке Амалии Кунькавой, планета Юпитер!» Так?
— Я пригласила бы ее сюда, к нам! — гневно заявила Катя и ушла, потому что со Стандой невозможно говорить о звездных далях и о красоте Вселенной.
— На задней веранде горел розоватый свет, на столе было разложено шитье. Бабушка сидела, сложив руки на коленях. Она глядела в ночь.
— Дедушка на работе? — спросила Катя, стоя в дверях.
Бабушка кивнула головой, приложив палец к губам, и поманила Катю к себе:
— Садись, послушай вместе со мной.
Волны тихой ночной музыки заполнили синюю тьму.
Приемник светился красноватым огоньком, как далекая звезда.
Еще долго после того, как замер последний звук, они сидели молча. Наконец Катя прервала молчание:
— Бабушка, почему такую красоту нельзя удержать? Почему мы не можем ее сохранить?
— Можем, — ответила бабушка, — можем сохранить любую красоту. Она накапливается у человека в сердце, как любовь.
— Бабуля, — Катя неожиданно заговорила удивительно коротко и по-деловому, — как по-твоему, я плохая и испорченная?
— Что? Что такое? — испуганно воскликнула бабушка. — Кто тебе это сказал?
— Ну… — Катя говорила так беззаботно, как сказала бы «с добрым утром», — ну, один мальчик.
Пани Яндовой это показалось ужасным, о чем она и сказала Кате с тревожным выражением лица; она выспрашивала ее до тех пор, пока Катя, желая того или нет, не рассказала ей обо всем: и о письме, и о свидании на реке, и о встрече с Ольгой. Постепенно лицо у бабушки прояснилось, и в конце концов они обе начали смеяться.
— Ты молодец, Катюшка! — ласково произнесла бабушка и погладила ее.
Сейчас они были близки друг другу как никогда, и было им вместе бесконечно хорошо. И Катя набралась духу — спросила о том, о чем раньше постеснялась бы говорить:
— Бабуля, расскажи мне о своей любви. О самой большой!
— Но у меня была одна… единственная. Она и была самая большая.
Катя дотронулась пальцем до кончика ее носа:
— Бабуля, а не обманываешь? А эта самая большая любовь… была учение или дедушка?
— Ах ты моя Катюшка, ты мой котеночек! — бабушка нежно прижала ее к себе. — Ты мой маленький любопытный котеночек. Ну что же… слушай!
В главе двенадцатой мы прощаемся с Катенькой
Сквер с названием «У старой крепости» был такой же спокойный и тихий, как и в былые годы; здание гимназии оставалось таким же почтенно-некрасивым; над площадью кружили кроткие голуби. В атмосфере сонного покоя отцвела весна, созрело лето. Медленно текло время в городке Борек.
А в мире бушевала война. В далекой Галиции все больше становилось могил. Солдаты сколачивали деревянные кресты и писали на них простые слова: «Тут лежит солдат из Чехии», «Здесь покоится Франтишек Томса, молодой врач».
Из далекой Галиции написали его родным, не сообщив даже название реки, огибавшей кладбище. Грохот пушек и взрывы гранат отделили живых от мертвых.
«В далекой Галиции…» Эти слова изменили всю жизнь Катеньки. Они призвали ее из Праги домой, к постели больной мамы.
Было это в канун осени 1914 года, как раз в то время, когда Катенька Томсова была так довольна, так безумно счастлива, как только может быть счастлив человек, давнишняя мечта которого сбылась: она была медичкой, студенткой университета. Уже полгода свирепствовала война, но Катя о ней и знать не хотела. Она вообще не хотела знать ни о чем, что могло бы помешать ее работе, ведь она поставила перед собой задачу — как можно скорее закончить учебу и стать врачом, самостоятельным, преуспевающим, как можно быстрее отплатить добром родным за все то, что они сделали ради нее, чтобы она могла получить образование. Она затыкала уши: пускай грохочут пушки, это не должно и не может ни на один день отсрочить сдачу ее экзаменов.
«Приезжай, положение тяжелое, мама заболела», — неожиданно позвала ее домой папина телеграмма.
Она пустилась в путь с потрепанным студенческим чемоданчиком. Ей и в голову не приходило, что она не вернется больше в свою пражскую комнатку, к своим книгам.
Вокзалы были переполнены солдатами в серых шинелях, плачущими, изможденными женщинами, полными скорби и отчаяния. Война. «Война!» стояло в воззваниях и призывах.
Но голода пока еще не было. Лишь теперь наступали тяжелые времена.
До сих пор только несколько семей получили шершавые листки, в которых военное командование с соболезнованием сообщало: «Ваш сын пал за родину и ее императора».
Катенька и подумать не могла, что в старой школе лежит одно из первых таких извещений.
После ужасной дороги, смертельно уставшая и совершенно не выспавшаяся, после многочисленных остановок на станциях, где поезду приходилось ждать в тупиках, пока пройдут военные составы, она возвратилась в Борек.
Старая школа и в школьные каникулы была родным домом. Длинный темноватый коридор хранил отзвуки маминых размеренных шагов, эхо ее голоса; везде был полный порядок, а папа временами улыбался, словно видел вдали что-то прекрасное.
Теперь Катенька вернулась в притихший дом, в котором двери хлопали от сквозняка. В комнате, где лежала больная, начинала оседать пыль. Получив страшное извещение, мама слегла, молчаливая и неподвижная, и только глазами просила поднести ей фотографию Франтишека.
Папа превратился в близорукого старца. Кожа на его лице стала пергаментной, руки тряслись: он ничего не видел, кроме извещения о гибели сына и живых еще глаз на неподвижном лице больной.
Катенька поняла, что папа утратил всю свою былую радость и гордость, и почувствовала, что и с ней случится тоже самое.
— Я останусь с вами дома, — сказала она.
Мама поблагодарила взглядом, а отец попытался утешить ее словами, произнесенными бесцветным голосом:
— Только на время, только пока все не уладится. Мама выздоровеет, поднимется…
Все трое знали, что она никогда не поднимется. Катенька за ней ухаживала, готовила и все не могла забыть свою студенческую комнатку, свои книги и планы. «Не буду, никогда уже не буду врачом. Не закончу учебу», — повторяла она мысленно и плакала каждую ночь.
Так проходили недели и месяцы. Глаза больной постоянно были влажны от слез и невысказанных просьб, папа уже не говорил «только на время». И врача уже больше не звали: помочь он не мог, да и денег было мало. Шла война; голод и нужда всё больше проникали в провинциальный городок.
По одной из улиц шла высокая, стройная девушка. Под глазами у нее были темные круги, в руке она держала пустую продуктовую сумку. Как велика была она в эти дни, когда хлеб отмеряли тонкими ломтиками! Катенька изменилась до неузнаваемости. Часами сидела она у маминой постели и вполголоса рассказывала ей о всяких происшествиях за день, о пустяковых случаях в лавчонках. Мама, казалось, становилась спокойнее, когда слышала Катин голос. В ее темных глазах зажигались слабые огоньки. Катя вспоминала и думала: «Как я могла бояться этих глаз, избегала их взгляда, от которого не ускользала ни малейшая погрешность. Наверное, потому, что мама была слишком строга?» Уже и у Катеньки на лбу стала прорезаться узенькая морщинка меж бровей, губы были поджаты от постоянных забот: как достать продукты, дрова, чтобы в доме было тепло, и прилично одеться на мизерные деньги? Как добиться того, чтобы белье было белоснежным и в квартире — чистота? Катенька чувствовала постоянную усталость. Она заметила, что сама становится более сухой и менее ласковой, и мысленно просила у мамы прощения за все прошедшие годы. Порой, когда она сидела за работой у постели больной, ей казалось, что мама просит глазами: «Прости, Катя, прости меня за все недоразумения, которые у нас случались».