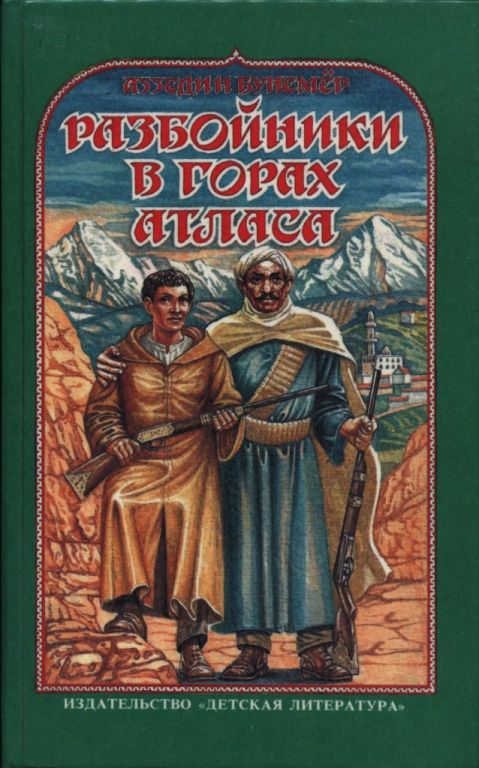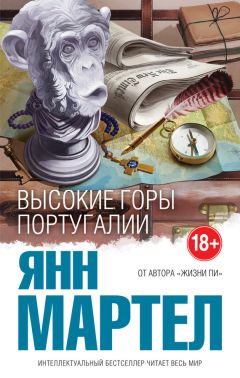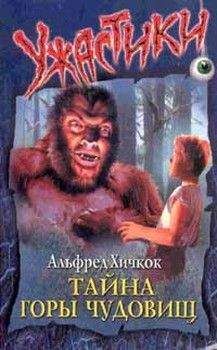не обезобразили ее лица. Остальные продолжали работать. Все скалы поблизости почти сплошь уже были покрыты коровьими лепешками.
— Мести, разводить огонь, ходить за водой, стирать — да разве это работа? — посетовала одна из женщин, подбирая подол платья. — Разве этим заработаешь на пропитание? Ребятишки того и гляди с голода помрут.
— Мы тоже чуть не помираем от голода, не одни ребятишки, — сказала в ответ другая.
— У тебя их нет. Вот ты и говоришь за себя.
— Да уж лучше их не иметь. И так вздохнуть некогда. Вечером я валюсь с ног, как чурбан. — Она наклонилась к своей соседке: — Это правда, что ты отдаешь дочь замуж? Она, бедняжка, совсем еще молоденькая.
— Отцу решать. Он может выдать ее замуж, может убить, вообще может сделать все, что пожелает. Мое дело помалкивать.
Вид у нее был смиренный. Несмотря на снедавшую ее печаль, она уклонялась от прямого ответа, чтобы не выставлять напоказ свои разногласия с мужем. Ей оставалось уповать на то, что все будет не так скоро, она надеялась потянуть с ответом, а там, глядишь, претенденты с досады и откажутся. Дочери ее едва минуло тринадцать лет, хотя по виду она была вполне зрелая девушка. Красивая, стройная, характером она была похожа на норовистую лошадку. Красота ее и привлекла внимание зажиточной семьи. Отцу хотелось извлечь выгоду, породнившись с таким семейством, да и выкуп хороший взять. Ведь на девушке-то не платье, а лохмотья, как-будто ее собаки драли.
Мы сопротивлялись, как могли, живя высоко в горах, среди орлов. Мужчины постепенно угасали, как огонь, у которого они согревались. Женщины едва могли прикрыть наготу, ребятишки плакали от голода, но каиды крепко держали их в своих когтях, требуя то кур, то оливкового масла, то баранов, то меда. Народ мало что имел и всеми силами старался слиться с землей, с деревьями, кормившими его. Чтобы не погрязнуть во мраке, он сочинял сказки, и в каждом их слове была заключена надежда. Природа вокруг была сурова, тверда как камень, как кремень. И человек закалился, стал крепче шипов. В его огрубелой коже ломались, застревая, колючки. Пусть руки и ноги у него потрескались, он всеми силами противостоял жестокой судьбе, бился за родник, за поле, за самое свое существование. Сломить его так и не удалось. Он жил одним днем, не зная, что ждет его завтра. Женщины приносили топливо: сухие ветки, хворост. Я будто сейчас их вижу: идут цепочкой, одна за другой, согнувшись под тяжестью, их и не видно под огромной вязанкой, так и бредут по тропинке, петляющей до самого гребня. И ни проклятья, ни угрозы их не страшат.
Но нищета плодила грабителей.
Хасану стало страшно. Всю дорогу он вспоминал людей с вилами. Откуда столько ненависти?
«Они готовы были убить меня», — думал он.
Перед глазами вставала вся его жизнь, звери, птицы, земля, деревья, ветер, дождь, светлые, ясные дни, мать, брат, отец, которого убили, друзья и враги. И он вдруг понял, что и в его душе поселилась ненависть, что он готов драться за себя, за своих родных, против всех тиранов на свете.
«Ведь и в других местах они тоже есть, такие же, как каид», — думал он.
Потом в душе его опять пробудились надежды, мечты.
«Что станется с Чернушкой? — беспокоился он. — Они могут убить ее».
Одна мысль об этом приводила его в ужас, он содрогался всем телом.
«А мать, а брат, что они с ними сделают? — Тревога не покидала его, он дрожал как лист. — Как мне быть? Куда пойти?»
Голова его отяжелела. Оставив бесплодные думы, он встал и снова бросился бежать, все дальше и дальше, надеясь отыскать бандитов из мечети.
«Их главарь, верно, еще жив, — думал он. — Весть о его смерти дошла бы до нас».
Добежав до речки, он подобрал полы блузы и, зажав их между колен, как женщины зажимают подол платья, пошел вброд. Из-за недавних дождей воды в уэде прибавилось, она стремительно неслась мутным потоком. Песок уходил из-под ног Хасана, уносимый течением. Жизнь показалась Хасану похожей на этот поток: вот так и его несет, несет, неведомо куда, а он не может остановиться.
«Как мне быть? — думал он. — Следовать течению жизни и плыть по воле волн? Или самому направлять ее течение в зависимости от обстоятельств?»
В голове у него все смешалось. Перейдя речку, он стал взбираться по склону. Дул свежий ветерок. Вдруг он увидел перед собой маленький сиреневый цветочек. Нагнувшись, он сорвал его и стал отрывать лепестки, один за другим, желая угадать будущее. Последний не сулил ему ничего хорошего, он бросил цветок и снова двинулся в путь. Было совсем темно, когда он дошел до места. Всю дорогу ему светил луч надежды: придут или не придут те, кого он искал?
Толкнув дверь, он вошел в мечеть. Там было пусто. Тяжело дыша, он упал на циновку. Голова у него кружилась. Пошел дождь, потом начался настоящий ливень. Молнии так и сверкали, грохотал гром. Тучи двигались с севера на юг. Сквозь старую, прогнившую солому крыши лило, как сквозь решето. Хасан встал, пытаясь отыскать сухое место. Он забился в угол. Вдруг громко хлопнула дверь. Кто-то торопливо вошел и стал отряхиваться. Хасан поднялся навстречу мужчине, который несколько раз чиркнул спичкой, прежде чем вспыхнул огонек.
— Ты кто? И откуда идешь? — спросил строго мужчина, стараясь разглядеть при слабом свете спички лицо Хасана. Левая рука его что-то сжимала под кешебией, он, не отрываясь, смотрел на Хасана.
— Откуда идешь? — снова спросил он.
— Из деревни Два Форта, — отвечал Хасан.
— Один?
Хасан смущенно кивнул головой.
— Случилось что-нибудь, малыш?
Хасан снова кивнул головой вместо ответа.
Бандит направился к трещине в стене из необожженного кирпича, достал оттуда свечу, зажег ее и снова подошел к Хасану.
— Неприятности? Это в твоем-то возрасте? — молвил он, смерив его взглядом. Затем, поставив свечу на пол, сказал Хасану: — Пошли поищем дров, чтобы развести огонь.
Он вышел первым, Хасан за ним.
Дождь лил как из ведра, все вокруг утопало в воде. Они разобрали остатки ограды вокруг мечети, сгнившие палки ломались легко. Когда они возвращались, яркая молния расколола небо. Хасан оторвал пучок соломы от крыши, поджег его свечой и сунул под кучу дров. Густой, едкий дым заполнил мечеть.
— Открой дверь, — сказал бандит.
Закрыв глаза рукой, Хасан пошел открывать. Пришлось добавить не один пучок соломы, прежде чем дерево, сочившееся водой, разгорелось. Зато ночь