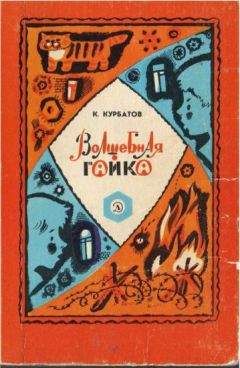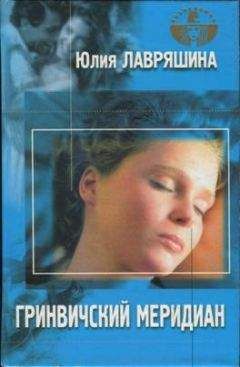Однажды он солгал ей. Это было в седьмом классе. Ходил с ребятами в кино, а ей сказал, что занимался у Юры. Он побоялся сказать ей правду потому, что два дня назад получил по алгебре «неуд». Заниматься нужно, а он — по кино.
— Это точно, что ты был у Юры и вы занимались? — переспросила она.
— Ну, мама же… — пожал он плечами.
На другой день, вернувшись с работы, она молча достала из сумки узенькую красную коробочку. В коробочке лежала «вечная» ручка с золотым пером, как раз такая «вечка», о которой мечтали все мальчишки Сашиного класса.
— Мне захотелось сделать тебе подарок, — сказала мама.
— Мне? — испуганно вспыхнул Саша. — За что?
— За то, что ты всегда говоришь правду.
Он стоял перед ней пунцовый от стыда и не знал, куда деть глаза и руки. За темным окном падал мокрый снег. А в буфете, перекликаясь с люстрой, тоненько и чисто пели серебряные колокольчики.
— Не нужно, мама, — выдавил он. — Я вчера сказал… Но мы вчера не у Юры… Мы в кино ходили.
Она прижала Сашу к себе, сунула в руку подарок, шепнула:
— Я поняла, сынок. Вчера поняла. И пусть мой подарок будет как бы авансом. Ладно? Я знаю, что ты больше никогда не обманешь меня. Ведь иначе получится, что я тоже лгунья: хвастаюсь, что ты всегда говоришь правду.
В их семье это было самым главным богатством — безупречная, какая-то даже мелочная и чуточку наивная честность. А та «вечка», когда Сашу призвали в армию, осталась лежать на этажерке рядом с высоким хрустальным стаканом, в который мама ставила цветы, и фотографией отца, погибшего на озере Хасан…
Плыть становилось все тяжелей. Волна шла им навстречу. Она выталкивала Чихачева из вогнутой деревянной скорлупы, и он распластал в воде раскинутые руки, словно пытался удержаться и сохранить равновесие.
— Посинел он весь, — проговорил Виктор, сдерживая холодную дрожь. — Помер он, наверное, а, Санька?
Лицо Чихачева и вправду сделалось белесо-синим. Запрокинув голову, он смотрел не то в небо, не то туда, где погиб их большой «охотник». Вернее, не смотрел, а упирался вдаль застывшим, немым взглядом. Голова покачивалась на крае расщепленных досок в такт с ударами волны.
— Пропадем мы с ним, — жалобно добавил Виктор. — А? Не доплыть нам с ним. Все вместе потонем. Слышь, Санька? — И вдруг хрипло закричал: — Да не молчи же ты! Не молчи! Санька! Что ты все время молчишь?! Потонем мы! Потонем! Из-за него потонем! Не могу я больше!
— Весь корабль потонул, — с судорожным придыханием выговорил Саша. — И лучше всем вместе, чем как ты говоришь.
Саша поднял руку и сделал гребок. От мысли, что они могут оставить товарища, в нем словно прибавилось сил.
Так они проплыли еще какое-то время. И когда их ноги коснулись наконец спасительного грунта, почувствовали, что больше не продержались бы и минуты. Вытащить Чихачева дальше кромки прибоя, где волна взбивала на песке рыжую пену, они не смогли. Дрожа и задыхаясь, они отползли чуть повыше, на сухой песок, и в изнеможении распластались лицом к горячему солнцу.
Из забытья, в которое Саша провалился, его вывел резкий окрик. Саша открыл глаза и не сразу сообразил, что происходит. В двух метрах от них, расставив ноги, стоял немец — обыкновенный немецкий солдат с приставленным к животу вороненым автоматом.
— Штейн ауф! — сказал немец, показывая дулом автомата, что они должны подняться. — Шнель, шнель!
Не спуская с них глаз, он боком отошел к воде, где лежал Чихачев, и носком сапога повернул к себе синее лицо со следами мазута.
Раньше Саша видел фашистов только на карикатурах в газетах. Этот немец был не таким. Он производил впечатление симпатичного парня. Открытое лицо со спокойными голубыми глазами, сдвинутая набекрень пилотка, серый мундир со светлыми металлическими пуговицами.
Чуть отойдя от воды, симпатичный немец опустил дуло автомата и резанул короткой очередью по Чихачеву. Пули ударили в сырой песок, в неподвижное тело краснофлотца и в воду. От их ударов Чихачев качнулся, будто хотел подняться, и снова замер. Эхо выстрелов, затихая, укатилось в море. А немец с открытым лицом, на котором ничего не отразилось, дулом автомата показал Иноземцеву и Фомину, чтобы они шли вперед.
По осыпающемуся из-под босых ног песку они поднялись на откос, выбитый вдоль берега морским прибоем. Открывшееся перед ними просторное зеленое поле упиралось в темнеющую на горизонте кромку леса. Справа, догорая, дымился остов какого-то здания. Невдалеке от него стояла открытая легковая машина с вытянутым носом и хромированным кольцом над радиатором. Всюду в беспорядке валялись грязные бочки, по-видимому, из-под машинного масла, и разбитые ящики. В поле, в неестественной позе, задрав в небо стабилизатор, на котором отчетливо выделялась красная звезда, маячил одинокий истребитель. А под вышкой, на которой, свесив ноги, сидел немецкий солдат с автоматом, копали землю раздетые по пояс люди. Их было много, этих людей, — может, человек сто.
Немец подвел Фомина и Иноземцева к офицеру и вытянулся перед ним. На плечах у офицера серебрились витые погоны. Офицер сидел в тени на складном брезентовом стульчике и вытирал надушенным платком потную шею. Тонкий горбатый нос вздувался у него крупными ноздрями. На траве, у алюминиевой ножки стула, лежала вверх донышком щегольская фуражка с высокой тульей.
Выслушав солдата, офицер что-то коротко приказал, не взглянув на пленных, лениво махнул душистым платочком в сторону копающих землю людей.
— Амбец нам теперь, — чуть слышно выдохнул Виктор. — Они там могилы себе роют. Видал часового?
Но оказалось, голые по пояс люди рыли не могилы. Пленных красноармейцев и краснофлотцев согнали сюда, на это поле, где недавно стоял советский истребительный полк, чтобы построить для немцев землянки. Судя по всему, фрицы собирались расположить здесь свою авиационную часть.
Все это Саша узнал от пожилого авиационного техника, в яму к которому его спихнули. Техника звали Аркадием. У него было бронзовое от загара лицо и белые выше кистей руки с узловатыми синими венами.
Над ямой вяло прохаживался часовой. Сашу больше всего удивила пренебрежительно-спокойная вялость фрицев — и того первого, что привел их сюда, и офицера с горбатым носом, и вот этого, который маячил над ямой.
Аркадий вгрызался лопатой в глинистый грунт со злобным остервенением. Он вышвыривал землю наверх и приговаривал:
— Ничего, отольются им наши слезки, немчуре проклятой, ничего, отольются. — И вдруг, перейдя на свистящий шепот, заторопился, следя глазами за часовым: — Мы, морячок, все летное поле здесь заминировали. Пускай ихние самолеты попробуют сядут. Наши улетели, а мы специально остались аэродром минировать. Пусть-ка они теперь сядут.
В голосе Аркадия звучали гордость и нетерпение. Лопата у него ходила сноровисто и равномерно.
У Саши получалось хуже. Он сильно ослаб, трудно было копать босиком. И еще страшно хотелось пить. Есть хотелось не так, как пить. От жажды в кровь растрескались губы и сделался шершавым вспухший язык.
— Попить они тебе дадут, — бурчал Аркадий, зло орудуя лопатой. — Это будет. Вот свистнут на перерыв, и пей сколько влезет. Тут цельная бочка воды. А пожрать — этого не жди. Это им не резон — кормить нас. Все одно, как землянки сделаем, в распыл нас пустят. Зачем же им зазря харч переводить, ежели все одно в распыл. Немец — он народ хозяйственный.
Приспособившись и войдя в ритм, Саша копал землю, и перед его глазами стоял крохотный, сияющий чистотой камбуз на большом охотнике. Черпаки и кастрюли, бак с холодным компотом, медный кран в переборке. Повернул кран — струя прозрачной воды с шипящими пузырьками…
Вспомнилось, как вчера носил в каюту командира ужин на пробу: миску щей, миску пшенной каши из концентратов и тонкий стакан компота с урюком.
Старший лейтенант Анохин был не в духе. Он сидел на койке за маленьким, заваленным книгами столиком, и что-то писал. Отодвинув от себя недописанный листок, резко спросил:
— Щи? Опять щи?
Он сказал это таким тоном, словно Иноземцев по своей воле варил для команды каждый день щи, а не какой-нибудь гороховый суп с ароматной грудинкой.
— Оставь, — сказал командир. — Вот сюда.
Саша поставил миски и машинально попал взглядом на листок, который лежал перед командиром. На листке было написано: «Ваш сын Щербак Борис Валерьянович погиб смертью храбрых…»
— Забирай, — сказал старший лейтенант, едва пригубив ложку щей и ковырнув кашу. — Можешь раздавать личному составу.
Саша ушел к себе на камбуз и раздавал товарищам ужин. Раздавал и все никак не мог забыть тех слов — «смертью храбрых». Так писали всем: «…погиб смертью храбрых». Но какая же это храбрость, если Борис умер под ножом на операционном столе? И не от ран — от аппендицита. У него перед выходом в море схватило живот. Но он скрыл, побоялся, что о нем плохо подумают. Все в бой, а у него живот. В море ему стало плохо. А когда вернулись на базу, оказалось, уже поздно. И врачи не смогли спасти Бориса.