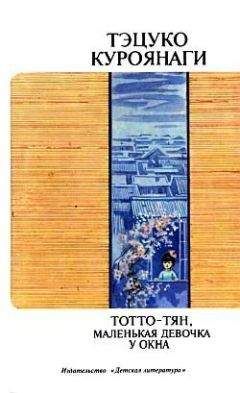Освобождения. Окончила двухгодичные вечерние курсы, в тысяча девятьсот сорок девятом году шесть месяцев в партийной школе училась. Ну, вот меня и выдвинули…
Йожеф Рошта с интересом слушал этот скупой рассказ, понимая, как много событий, переживаний, невысказанных дум скрывается за ним.
— Значит, оценили тебя, — сказал он. — Теперь в конторе работаешь?
— И в конторе… везде. Я руковожу фабрикой.
Вильма Рошта сказала об этом просто, как о чем-то само собой разумеющемся, и эти несколько слов, больше чем все прочитанные до сих пор газетные статьи, объяснили Йожефу, что возвратился он в новую Венгрию, где все изменилось в корне. Его охватило какое-то бесконечное спокойствие, словно он сбросил с плеч тяжелую котомку, вот уже тридцать шесть лет давившую ему спину, скинул с себя бремя страха, сомнений, печали и отчаяния. Он повернулся к дочери и с юношеским пылом, широко жестикулируя, стал по-французски пересказывать ей то, что услышал от сестры. Опустив глаза, девочка неподвижно, чинно сидела на кушетке и тайком прислушивалась к разговору. Иногда ее рот и руки чуть шевелились, словно повторяя слова и движения Вильмы. А Йожеф Рошта оживленно расспрашивал сестру:
— А большая у вас фабрика?.. Ты когда-то писала об этом, но я все, конечно, позабыл.
Вильма рассмеялась и встала с кресла. Видно было, что она уже теряла терпение.
— Про те письма и вспоминать незачем. Нас тогда девяносто работниц было, а теперь девятьсот… в три смены работаем. А дочка-то у тебя тихоня, — без всякого перехода сказала она. — Но будем надеяться, что она еще разговорится. А сейчас давайте распаковываться! Устраивайтесь, а я об обеде позабочусь. Это ты умно сделал, что приехал в воскресенье.
Жанетта — «тихоня»! Как отнестись к этому? Засмеяться или встревожиться? Собственно, нужно бы рассказать Вильме о Жанетте — ведь сестра без всяких сомнений и колебаний принимает их в свою одинокую жизнь… Йожеф топтался вокруг сестры, а она с неожиданной стремительностью принялась за работу. Сложив скатерть, повесила ее на спинку кресла, отодвинула стулья, открыла одну из створок шкафа и, поставив солдатский сундучок на стол, начала выкладывать оттуда вещи. Кроме нескольких книг, в сундучке оказались прямые и искривленные гвозди разной величины, куски железа, велосипедный звонок, скрученные открытки со святыми.
— Да ты что, одурел, Йожи, что ли? Зачем ты все это тащил из Франции? — И, взяв в руку несколько «сувениров», Вильма энергично швырнула их на пол.
— Это дочкино хозяйство… — смущенно пробормотал Йожеф.
Но в ту же секунду Жанетта, словно дикая кошка, подскочила к столу и захлопнула крышку сундучка:
— Скажите ей, чтобы она не прикасалась к этому! Ей дела нет… дела нет до наших вещей, так и скажите!
Йожеф Рошта даже почувствовал облегчение: Жанетту незачем представлять — она сама, без посторонней помощи, выполнила необходимые «условности». Теперь Вильма десять раз подумает, стоит ли давать им пристанище.
— Смотрите-ка, да как же хорошо она по-французски-то выучилась! — только и сказала удивленная Вильма и без всякого гнева обратилась к Жанетте: — Ну что ты волнуешься, девочка, ведь не съем же я твои гвозди!
Жанетта снова закричала что-то. Вильма перебила ее. Ответом ей был стремительный поток французских слов. Они заговорили вместе, стараясь перекричать друг друга: одна по-венгерски, другая по-французски. А Йожеф, отирая пот со лба и запуская пальцы в волосы, старался успокоить обеих.
— Послушай-ка, что я скажу тебе, Вильма! — Теперь он тоже кричал. — Она же ни одного твоего слова не понимает!
Вильма Рошта изумленно посмотрела на брата:
— Твоя дочь не знает венгерского языка?
— А откуда ей знать? Она ведь во французской школе училась.
На мгновение стало тихо. Вильма один за другим поднимала гвозди, раскатившиеся по полу, Жанетта разглаживала смятые картинки святых.
— Н-да-а… — задумчиво произнесла Вильма. — Хотя, конечно, она во французской школе училась… У монахинь?
— Да. Я тебе все потом расскажу по порядку.
— Правильно, времени еще хватит! — И, как прежде, спокойным, приветливым тоном Вильма сказала: — Ну, так укладывайте в шкаф вещи-то, располагайтесь поудобнее.
И пошла к дверям. Йожеф кинулся за сестрой:
— Ты в самом деле считаешь, что мы можем здесь играться? Видишь ли, дочка… она немножко своенравная… Там, дома, ее баловали… и жена и теща, ну и, понимаешь ли…
— Я же сказала, что рада видеть вас, чего же тебе еще? Или думаешь, что я дочки твоей испугалась? Нечего сказать, хорошо же ты знаешь Вильму! — И она решительно оттолкнула брата.
Йожеф все же пошел за нею в маленькую кухоньку, чувствуя, что остались еще невыясненные вопросы. Он даже не бросил вокруг взгляда, следуя по пятам за хлопотавшей сестрой.
— Когда война кончилась… когда я от немцев вернулся, я письмо тебе послал. Ты получила?
— Получила… месяца через четыре.
— И не ответила…
Вильма наклонилась над газовой плитой и одну за другой включила три газовые горелки.
— Да, не ответила.
— Почему?
— А потому что ты домой не возвратился, как другие, — ответила она, быстро орудуя у плиты. — Я думала, ты уже совсем забыл свою родину. Зачем же мне было тревожить тебя попусту?
В нескольких словах Йожеф рассказал ей, почему пришлось остаться тогда во Франции. Вильма внимательно слушала, потом объявила:
— Что ж, доктора сговорились, это ясно. Бедная женщина! Видно, славная она была… Почему же ты не написал обо всем этом?
— Ты не ответила на первое мое письмо. Ну, я и подумал, что во время осады Будапешта… с тобой какая-нибудь беда приключилась. Да и нынче я ведь не сразу заметил тебя на перроне…
— Вот уж верно говорят: если бог захочет наказать, сперва разум отнимет! Правда, было дело — осенью в тысяча девятьсот сорок четвертом году нилашисты [13] в тюрьму меня засадили, из Будапешта по этапу выслали. Прямо с фабрики забрали, как подстрекательницу! — Вильма расхохоталась так громко, что на плите задребезжали