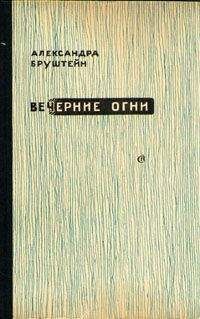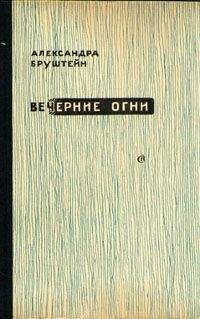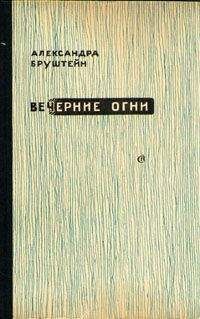Тут начинают кричать то же самое и другие девочки, с которыми занимается Маня.
Дрыгалка жестом заставляет всех замолчать и снова обращается к продолжающей стоять в своей парте Мане:
— Так как же, Фейгель? Вы не ответили на мой вопрос…
Тут, не сговариваясь, одновременно встаем Лида, Варя и я.
— Вам еще что нужно? — обрушивается на нас Дрыгалка. — Вы желаете защищать Фейгель?
— Евгения Ивановна! — говорит Лида. — Я тоже…
— И я тоже… — заявляю я.
— И я… — басит Варя.
Дрыгалка смотрит на нас, — веки ее осовелых глаз хлопают, как ставни на осеннем ветру.
— Что такое «вы тоже»? — бормочет она. — Чго такое вы трое «тоже»?
Мы объясняем ей все: учебная треть кончается, у нас много двоечниц, мы хотели им помочь и потопу нанимаемся с ними. Они стали учиться лучше: вот сейчас на уроке арифметики она, Дрыгалка, сама слыхала, как отвечала Малинина, как ее похвалил Федор Никитич…
Дрыга слушает с лицом страдающим и несчастным.
— Но кто вам разрешил вести эти занятия?
Мы трое переглядываемся.
— А мы не знали, что нужно спрашивать разрешения… — говорит Лида с удивлением.
Дрыгалка долго молчит.
— Вот что… — произносит она наконец. — Я этого случая так оставить не могу. На следующем уроке я доложу об этом начальчице. И тут уж… — Дрыгалка беспомощно и покорно разводит руками, — тут уж все будет, как она скажет.
Мы все, в общем, не особенно волнуемся. Дело кажется нам таким естественным и простым. Девочки учатся плохо, им хочется учиться лучше, у родителей их нет денег на то, чтобы нанять учителей, — ну, мы хотели помочь… Господи, к чему тут можно придраться?
Оказывается, можно!
После уроков Дрыгалка приказывает всем идти домой, а нам, четырем «учительницам», — на квартиру начальницу. Нам становится немножко не по себе. Даже чуть-чуть страшно. Все мы — бледные, жмемся вдруг к другу, у меня страшно болит живот (всегда в таких случаях!); Лида успевает шепнуть мне, что у нее тоже… Спокойнее всех держится Маня Фейгель. Она стоит между Лидой и мной и тихонько, незаметно ни для кого, поглаживает пальцы наших рук.
В квартире Колоды все — маленькое, миниатюрненькое: низенькие пуфики, масса безделушек, какая-то совсем игрушечная кушеточка, две крохотные круглые как шарики, беленькие собачки-болоночки. Даже непонятно, как Колода умудряется не раздавить весь этот крохотулечный уютик! Что она видит в маленьком круглом зеркале на стене? Наверно, один толы о свой нос? Или одно ухо?
Мы продолжаем стоять неподвижно. Из соседней комнаты все время выбегают беленькие болоночки с темненькими носиками; они тявкают на нас, но не кусаются. Наоборот, они выражают нам всяческую симпатию — становятся перед нами на задние лапки и пританцовывают около нас Если бы у меня не болел живот и мне не было так страшно (мне все-таки страшно! Да и Лиде и Мане тоже страшно), я бы с удовольствием смотрела на этих смешных собачат.
Из соседней комнаты доносится шушуканье Колоды с Дрыгалкой, но слов разобрать нельзя. Только порой они называют которую-нибудь из наших фамилий.
Наконец шушуканье смолкает. В дверях появляется могучая фигура Колоды. Где-то за ней угадывается тощенькая Дрыгалка.
Мы делаем глубокий реверанс.
Колода молча и хмуро кивает нам головой. Затем она садится в креслице и долго смотрит на нас испытующим взглядом. Это очень неуютно.
Наконец она творит насмешливо, неодобрительно качая головой:
— Э бьен, господа преподаватели объясняют непонятно и потому вы переобъясняете их слова своим подругам? Ученицы не понимают господ преподавателей, а вас — понимают, да? Это просто… просто очаровательно!
И Колода смеется нарочито и натужно, как плохая актриса на балу.
— И вы — маленькие девочки, первоклассницы! — вы решили открыть тайную школу в нашем институте? Так?
Может быть, оттого, что живот разбаливается у меня с каждой минутой все пуще, на меня нападает отчаяние, и я отвечаю Колоде на ее вопрос:
— Александра Яковлевна, мы не хотели открыть тайную школу… мы хотели помочь двоечницам…
— Молчать! — кричит Колода таким страшным голосом, что обе белые болоночки, только что дружелюбно обнюхивавшие мои ботинки, начинают в два голоса тявкать на меня. — Молчать! — продолжает Колода. — Вы должны выслушать, что вам скажут, а ваши слова никому не интересны, да… Так вот… где же это мы? Вы меня сбили… Ах, да! Вы действовали самовольно, без разрешения, да… так сказать, незаконные действия… Вы незаконно собирались… Как заговорщики, да! Господин директор, которому я доложила обо всем, называет ваши поступки заговорщицкими, да! За незаконные действия с к о п о м, — подчеркивает Колода, — да-да, скопом, потому что вы подговорили и этих несчастных двоечниц тоже, — значит, вас было много, не меньше десяти человек, боже мой! — за это вас следует исключить!
Когда Колода волнуется, она начинает в разговоре брызгать слюной. Слово «исключить» она произносит с брызгами во все стороны. Это смешно, но я не смеюсь: рука Мани Фейгель около моей руки резко вздрагивает. Я понимаю: Маня с ужасом думает о возможности своего исключения из института. Мне тоже становится очень не по себе.
— Господин директор настаивал на вашем исключении, — говорит Колода. — Но я уговорила, я положительно умолила его простить вас. Я верю, что вы — не окончательно испорченные девочки, да… бог вам поможет, и вы еще исправитесь… Но помните: никаких незаконных поступков! Никаких действий скопом! Вы меня поняли?
Мы молчим, наклонив головы и глядя себе под ноги. Мы не отвечаем, потому что мы уже крепко знаем: когда начальство задает вопросы, оно вовсе не ждет от нас ответа, надо молчать и терпеливо ждать, пока кончится вся эта комедия.
— Ступайте! — говорит Колода. — И помните! Помни-те!
Мы делаем реверанс и уходим почему-то на цыпочках. Может быть, этим мы хотим показать, что мы пом-ним! пом-ним!
Мы в самом деле пом-ним! Помним и о том, что надо во что бы то ни стало довести наших бедных двоечниц до честных троек. Мы больше не занимаемся в стенах института, мы собираемся по очереди у каждой из нас. В день, когда нам выдают «сведения» (теперь это называется «табель»; у нас называлось «Сведения об успехах и поведении ученицы такой-то»), мы, четверо заговорщиц (Лида называет нас «скопщиками»), сияем, как именинницы: все наши «студентки» получили тройки, честно заработанные трудом, своим и нашим. Только бедная Броня Чиж получила одну двойку — по французскому языку, и то главным образом за кляксы в тетради.
Глава тринадцатая. НЕУДАВШИЙСЯ ЖУРФИКС
— Ты бываешь у Ивана Константиновича? — задает как-то папа за обедом вопрос.
Мама отвечает не сразу.
— Бываю, конечно…
— Но — реже, чем раньше?
— О да! Гораздо реже…
Помолчали. Потом папа снова спрашивает:
— А Пуговка бывает там?
Я — не мама. Я не умею отвечать так сдержанно, тактично. Мне это не дается. Я, видно, бестактичная…
И сейчас на папин вопрос: «А Пуговка бывает там?» — я отвечаю, как отрезываю:
— Нет. Пуговка там не бывает.
— Та-а-ак… — задумчиво тянет папа. — Ну, давай начистоту: тебе Тамара не нравится?
— А кому она нравится? Кому она может нравиться… такая? У нас в классе ее все терпеть не могут. Маме она тоже не нравится, только мама молчит…
— Да, она мне не очень нравится… — признается мама.
— Но ведь это внуки Ивана Константиновича! — говорит папа с упреком. — Ведь он их любит!
— А что «внуки»? — снова наседаю я на папу. — Леню мы с мамой очень любим. И он нас любит. Каждый день хоть на полчасика да забежит! Совсем как свой; маму зовет «тетей Леной», тебя — «дядей Яковом»…
— Очень славный мальник! — подхватывает и мама. — Добрый, ласковый, веселый… Я бы хотела, чтоб наш Сенечка такой стал, когда вырастет!
— И Поль его любит, и Юзефа, и Кики… Весь дом! Ужасно жалко, что он — не девочка, он бы у нас в институте учился. А Тамарка эта… Иван Константинович ее так любит — и птиченька она, и птушечка, и уж не знаю, как еще, — а она с ним разговаривает вроде как с лакеем!.. Княжна Хованская! — произношу я в нос. — Княжна Болванская!
— Что за глупости! — строго обрывает меня папа.
— Это не я так ее называю, — это Меля Норейко так говорит… "
— Девочка, конечно, не очень симпатичная, — говорит папа задумчиво. — Но ведь — ребенок еще! Взрослый, если плохой, — так он уж навсегда плохой, до самой смерти… И то не всякий, бывают исключения. А дети тем и хороши, что у них все еще может меняться.
Мама говорит очень сдержанно:
— Будем надеяться, что девочка еще выправится.
Все с минуту молчат.
— А пока, заявляет вдруг папа очень решительно, — сегодня вечерком пойдем-ка мы все трое к Ивану Константиновичу. Ведь горько же старику, — понимаете вы это? Вроде как отреклись мы от него!
И вот мы сидим вечером за столом у Ивана Константиновича. Рад он нам — ужас до чего!