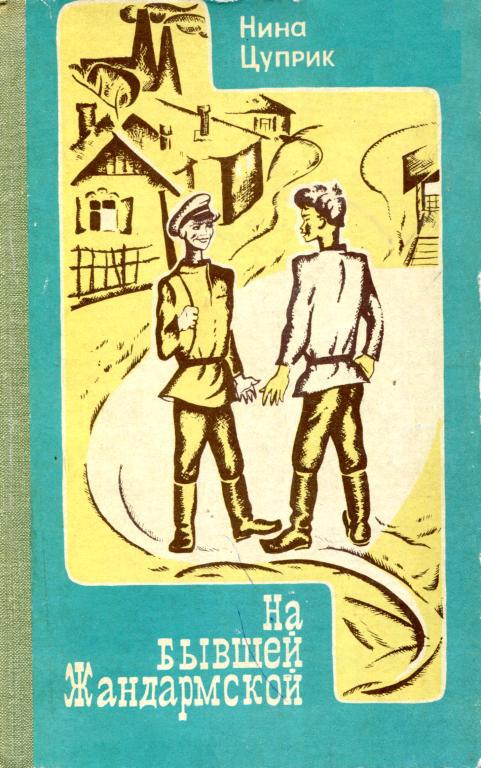кивали вслед головами, не отрываясь ни на секунду от работы. Каждый из них чувствовал на себе придирчивые глаза мастера Жарикова из-за стеклянной стены небольшой конторки.
В руках у Жарикова замусоленная записная книжка, о которой помнили все.
— Эй, ты, больно часто куришь. А ты шевелишься, как дохлая муха. У меня тут все записано, — тряс мастер в конце смены своей книжкой перед замеченными.
Рабочие плевали мастеру вслед, обзывали его между собой «иудой» и «живодером». А по субботам в конторе ставили свои каракули и крестики в ведомости с жирной графой «за нерадивость».
По мастерской Николка шел медленно. Как бы ему хотелось тоже склониться над станком, чтобы золотые искры летели во все стороны из-под резца!
Мастера Жарикова Николка нашел возле самого большого станка, на котором работал Кущенко. Токарь закреплял огромный маховик для обточки. Ему помогали другие станочники.
— Поживей шевелись, ребята! Без этого маховика у господина Степанова мельница не работает, — поторапливал Жариков, размахивая короткими руками, вроде тоже помогал. Его широкое лицо было грязным.
— Вас Пал Титыч в контору звали! — выкрикнул Николка, подбегая к мастеру.
— Поворочался бы сам господин Степанов со своим маховиком, будь он трижды неладен, — громко сказал один из рабочих, когда Жариков ушел. — В нем, в маховике-то, поди-ка, пудов тридцать весу, не меньше.
Николке хотелось побыть хоть немного возле Ивана Васильевича. Мальчик смотрел, как токарь, обливаясь, потом, завинчивал гайки на длинных болтах. На больших руках Кущенко вздулись тугие мускулы. Наконец, маховик прилип к патрону.
— По-шел, голубчик! — проговорил Иван Васильевич и подмигнул Николке, словно приглашая порадоваться окончанию трудного дела. «Видал, мол, как мы его одолели?» Николка в ответ закивал головой: «Вижу, здорово получилось».
Маховик словно ожил и начал медленно вращаться. В его обод острым зубом ткнулся резец, посыпались чугунные крошки.
В это время тоненько, будто нехотя, запел заводской гудок, разрешая рабочим ненадолго выйти из пыльных мастерских и пообедать. Остановились станки, прекратился гул, слышнее стали человеческие голоса. Закопченные, усталые, выходили рабочие на свежий воздух, на солнышко.
— Перекусим, братцы, чем бог послал.
— Надейся на бога, да сам не плошай. А не заработаешь — кулаки кусай, — переговаривались они.
Иван Васильевич старательно вытер куском ветоши руки.
— Как живешь, Мыкола? Бегать еще не надоело?
— Ничего, дядя Иван, ноги-то не купленные.
— Потерпи еще немного. Будет шестнадцать, возьму тебя в ученики. Я ведь про тебя помню.
Рассылка даже подпрыгнул от радости. Ух ты-ы! Скорее бы пролетели эти три года…
— Знаешь что, Мыкола? Дело у меня к тебе.
— Какое, дядя Иван? Слетать куда? Так я мигом! — с готовностью отозвался Николка, намереваясь бежать хоть на край света.
— А ты догадливый. Надо, брат, слетать. Хлопец ты надежный.
От похвалы парнишка зарделся, даже уши стали красными.
Иван Васильевич оглянулся. Николка тоже посмотрел вокруг, присел: нет ли кого за станками. В мастерской они были одни.
Кущенко достал письмо в сером конверте.
— Вот, Мыкола, отнеси в почтовую теплушку Афанасию.
— А-а, вашему брательнику? Знаю. Давайте.
— Погоди ты, суета! Не простое, секретное… Понял?
Николка быстро сунул письмо за пазуху, плюнул на ладони, пригладил вихор.
— Я побежал.
— Одна нога здесь — другая там. Потом вместе обедать будем.
От плужного завода до станции, если бежать хорошей ездушкой, то за десять минут будешь на месте. Но и за этот короткий путь в Николкиной беспокойной голове перебывало много разных мыслей. Он давно краем уха слышал, что Иван Васильевич занимается какой-то «политикой», за которую ссылают в Сибирь, сажают в тюрьмы. А в конторе часто говорили, что де Кущенко «мутит народ» и по нем давно плачет каторга.
Говорили и про других. Недобрым словом поминали кузнеца Степана, литейщика Парамонова, модельщика Ракова, кого-то из молодых парней. Но Ивана Васильевича называли самым главным смутьяном…
Однажды конторщик послал Николку на поляну, где рассаживались на обед рабочие. Велел послушать, о чем там толкуют. «После доложишь»…
Ходил Николка. Про войну говорили, ругали ее. Только рассылка не стал докладывать конторщику. Лишь принес газетку с портретом бравого генерала с длинными усами.
— Сам видел, читали…
Конторщик сморщился, как от зубной боли, рассылку обозвал болваном и раззявой, а газетку швырнул в угол.
Виновато хлопая белесыми ресницами, Николка думал про себя: «И знаю, да не скажу!»
Больше рассылку не посылали подслушивать. Зато он сам частенько подсаживался к рабочим возле механической. И не отказывался, когда угощали:
— Николай Николаевич, поешь-ка щей. Хоть и пустые, да горячие.
Заверни он сейчас с этим письмом в контору — похвалили бы, отблагодарили. Да только не дождутся!
Об этом думал Николка по пути к станции и радовался: никому другому не доверили столь важное тайное дело, только ему. Напрасно конторщик ругает его болваном: добрые люди человеком считают.
— Эй, дырка? Куда топотишь? — раздался насмешливый окрик.
Следом пылил по дороге конопатый Матюшка, сын железнодорожного стрелочника.
Кабы Николка не находился при важном поручении, ни за что бы не простил Матюшке обидного прозвища. Из-за него теперь всю жизнь приходится сверкать щербиной во рту. Матюшка головой выбил ему зуб во время воскресной драки между ребятами Колупаевского и Мухоморовского поселков.
Когда Николка явился на работу с синяками и шишками, Иван Васильевич долго распекал его возле мастерской:
— Чего не поделили? Это вас купчики-буржуйчики стравливают, как петухов, для своей потехи. У вас, молодых пролетариев, должна быть такая же дружба, как у рабочих… Солидарность!
Николка дал слово не драться с тех пор.
— Ты что, мухомор червивый, по нашей улице ходишь? Щербатик! Хошь я тебя по шее крапивой настегаю? — не унимался Матюшка.
Николка обернулся. Он хотел добром поговорить с Матюшкой, объяснить ему про со-ли-дарность. Но возле плетня увидел вахмистрова Ваську и лавочникова Сеньку.
«Вон кто его науськал», — со злостью подумал Николка и прибавил шагу. Пришлось отказаться от разговора.
— Ага-а! Струси-ил! — завопили позади. Матюшка подскочил и ткнул в спину кулаком.
Не ввязался бы Николка в эту глупую драку, если бы из-за поворота не появилась Варька с кринкой в руках…
Она была Николкиной ровесницей и большой щеголихой. Правда, платье и в будни и в праздники носила одно — синее с цветочками. Зато ленточки в тоненькую русую косичку заплетала разные. А волосы на лбу выкладывала разными кренделями и смачивала квасом, чтобы не рассыпались.
Познакомился с ней Николка случайно прошлой зимой, когда сидел в кинематографе и сосал душистую тянучку. Он купил их три на пятак: себе, сестренке Стешке и бабке.
— Ты ково ешь? — услышал он рядом девчоночий голос.
«Ковоку», — хотел ответить Николка. Но на него