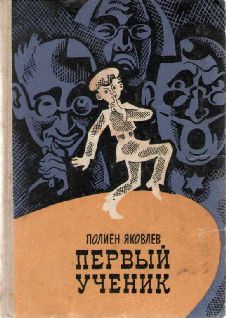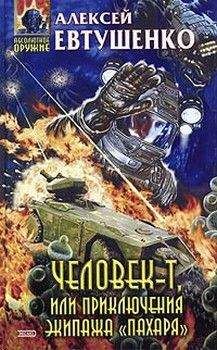— И я уеду, — сказал Самоха.
— А тебе зачем?
— Чего я здесь не видел? Знаешь, Мухомор, если ты устроишься где-нибудь на заводе, то и меня устрой. Я сейчас же приеду.
— Ох, если бы это удалось! — искренне воскликнул Володька. — Вот бы мы вместе… А?
— Да. Ну, я пошел, меня Карл Францевич на один только час отпустил. Слушай, Мухомор, забегай ко мне в аптеку. А?
Поболтав еще минут пять, Самоха простился и ушел.
Проводив товарища, Володька стал с нетерпением поджидать мать. Когда та пришла, он сказал ей:
— Я побегу.
— Поздно, Володя, куда ты?
— Мне очень надо. Я быстро.
Одевшись, вышел на улицу, постоял, подумал и решительно направился к Лихову.
Вспомнилось ему, как он шел туда в первый раз, когда они с Самохой опустошили церковную кружку. Как тогда было велело, хорошо… А вот теперь… Теперь не игрушки, теперь он уже по-настоящему… Вот так, как и его отец…
«Отцу бы все рассказать», — подумал Володька. И так ему захотелось увидеть его… Но он знал, что это невозможно. Отец далеко и… И фамилия у него, может быть, уже иная. Правда, приходят иногда от него письма, но в них он никогда не указывает своего адреса. Адреса он дает чужие. Пока дойдет письмо до отца, наверное, раза три адрес изменится…
Незаметно дошел он до Кольцовской улицы и очутился возле квартиры Лихова.
Было поздно. Войдя во двор, Володька постучал в ставень. Когда его впустили в комнату, он спросил:
— Лихов дома?
Мать Лихова ответила ему не сразу. Она тяжело вздохнула и покачала головой. Володька заметил, что она не на шутку встревожена чем-то, и терпеливо ожидал ответа.
— Нет его, — наконец сказала она. — А зачем он нужен?
— Дело есть важное. Он скоро придет?
— Он болен.
— Болен? — удивился Володька. — Он что, в больнице?
— Нет. У одних людей… Только… Да зачем он?
Володька понял, что с Лиховым случилось что-то. Не знал, как быть. Расспрашивать, выпытывать считал нетактичным, а уйти в неведении не хотелось. Постоял, переступил с ноги на ногу и осторожно спросил:
— Скажите, что с ним? Я, честное слово, не разболтаю.
— Побили его в день маевки сильно, — сказала мать, — да, спасибо, товарищи не дали полиции арестовать. Понесли его было, а потом он кое-как сам пошел, ну и спрятали они его. Доктора потихонечку приводили. Ключица повреждена. Говорит доктор, что опасности для жизни нет, а пролежит долго. Лишь бы не пронюхали, где лежит-то он… Ох, ох, ох… Что делается только?! А я вот сижу, сижу здесь одна и так мне скучно. А пойти к сыну боязно, как бы за собой какого-нибудь соглядатая не привести. А ты входил сюда — никого возле дома не было?
— Я не обратил внимания, — сказал Володька. — Когда буду уходить от вас — посмотрю.
— Будь осторожнее. Ну, а у вас как?
— Да все то же… В мастерских меня рассчитали.
— Это плохо… А как сообщили мне о сыне, я так вся и обмерла… Но он хоть живой остался, а вот Алферов…
— А что с Алферовым? — вдруг громко крикнул Володька. — Что с ним?
— Разве не знаешь?
И оба умолкли. Володька не решался уже ни говорить, ни спрашивать…
Наконец мать сказала:
— Городовой его… Наповал…
Володьке не верилось. Он думал: «Да нет, этого быть не может. Ведь это же, это же…»
И вдруг почувствовал себя таким усталым, Точно прошел сто верст.
Сел и опустил голову…
— Иди ты домой, — ласково сказала мать Лихова. — Уже одиннадцать пробило. А что же Васе-то передать, если в случае чего?
— Скажите, — поднялся Володька, — что хотел его видеть Лебедев. Ну, до свидания. Я еще как-нибудь забегу. Может быть, вам что понадобится, так я… А Васе, если будете что-нибудь передавать, мой поклон передайте. Скажите, чтоб поправлялся скорее.
И опять подумал: «Алферов…»
Надвинул поглубже шапку, вздохнул и вышел.
Глухими темными переулками стал он пробираться на свою горбатую уличку. Вот и калитка. Вошел во двор, сел у дверей на ступеньки, задумался и долго просидел так, сжимая руками голову.
Наконец, встал и постучал.
Мать впустила его и сказала:
— Как ты поздно, Володя. Чаю дать?
— Не хочу.
— Что такой бледный?
И вдруг она испуганно вскрикнула:
— Что с тобой? У тебя слезы?
— Ал… Ал… феров, — еле выговорил Володька и, склонившись к столу, заплакал…
В прихожей раздался звонок. Поправляя на ходу фартук, Варя побежала открывать дверь.
Минуту спустя в гостиную вошел Швабра. Он весь сиял. На нем был новый форменный сюртук с золотыми пуговицами, а из рукавов выглядывали белоснежные, накрахмаленные манжеты.
— Господа дома? — спросил он Варю.
— Дома, дома, милости просим.
— А, дорогой Афиноген Егорович, — раздалось из соседней комнаты, и в гостиную вошла Колина мама. Протягивая руку Швабре, она улыбнулась и сказала: — Давненько вас не видать.
— Помилуйте, — ответил Швабра, — уж я ли не частый гость? Супруг ваш?
— Дома. Хоть бы вы, Афиноген Егорович, на него повлияли. Зарылся в своих бумагах, и не подступись к нему. И вечерами, и ночами сидит, сидит, сидит. И все, знаете, над чем? Над этими разными, ну, как бы вам сказать, делами. На днях опять будет суд и опять ему выступать с обвинительной речью.
— Это суд над этими-с, над политическими-с? — спросил Швабра.
— Да, да. Я прямо не понимаю, откуда их столько берегся, этих политических.
— Хе-хе! — весело засмеялся Швабра. — Так уж устроено-с. Чем одни довольны, тем другие недовольны-с. Фантазеров много на свете. Воображают, что могут переделать мир. Да-с. Но все это пустяки. Лето, лето на носу, наступили каникулы.
— Да, — сказала мама, — как время быстро бежит. Коля уже в шестой класс перешел.
— А главное, — заметил Швабра, — по-прежнему первый ученик-с.
Мама просияла.
— Да, первый, — сказала она, но вдруг добавила: — Сколько это нам стоит, Афиноген Егорович!
— Гм… Да…
Швабра понял, на что намекает Колина мама. Ведь и ему каждый год делали подарки. Правда, обставлялось это всегда очень тактично, деликатно, но тем не менее…
Он сказал:
— Все это ничего в сравнении с прекрасным будущим вашего единственного сына. Еще три года — и он студент-с.
— А вы почему не присядете? — спросила Колина мама.
— Мерси. Спешу-с. Сегодня ведь…
— Ах, да, да, — вспомнила она, — сегодня вечер для выпускных в гимназии.
— Вот именно-с… Но не мог, проходя мимо вашего дома, не засвидетельствовать вам моего глубочайшего…
— Оставьте, пожалуйста, — перебила Колина мама, — вы так любите говорить комплименты, — и, постучав в дверь кабинета, она сказала: — Алексис, у нас Афиноген Егорович.
Раскрылась дверь, и вошел папа.
— Плохо, плохо, — погрозил он пальцем, — плохо вы воспитываете молодежь. — И, любезно поздоровавшись со Шваброй, продолжал:
— У меня есть сведения, что во всех уличных безобразиях участвовали некоторые учащиеся старших классов и в том числе…
Он сделал паузу.
— И в том числе, — сказал он, угощая Швабру сигарой, — ваши гим-на-зис-ты…
И опять погрозил пальцем.
— Ничего-с, — сказал Швабра, — сегодня многие уже стали не гимназистами, а студентами. Что прошло для них благополучно в гимназии, то не пройдет благополучно в университете. Там неблагонадежные элементы выдают себя довольно быстро. Сегодня мы провожаем окончивших, сегодня наше последнее напутственное слово воспитанникам-с. Да-с… Помню и я тот день, когда кончил гимназию… Однако разрешите откланяться. Спешу-с.
Швабра только хотел уйти, как вошел Коля. Он поздоровался и сказал:
— Афиноген Егорович, в этом году мы с мамой едем в Крым.
— Прекрасно-с, — улыбнулся Швабра, — завидую-с. А я никуда-с, хотя что ж… Мною уже не овладевает беспокойство и охота к перемене мест, как это прекрасно сказано у Пушкина. Хе-хе…
Бросив еще две-три незначительные фразы, Швабра раскланялся и исчез.
— Знаешь, мама, — сказал Амосов, — все-таки Афиноген Егорович, по-моему, не очень умный.
— Ты только заметил? — засмеялась мама. — Но это тебя не касается. Умный не умный, а кончай гимназию.
— Опротивело мне учиться…
— Да, — вздохнула мама, — еще три года тебе тянуть, бедняжке. Ну, Колечка, расскажи мне, что у тебя нового?
— Ничего, — капризно ответил Коля. — Скучно. Моя мечта поступить в военное училище. Мама, ты как думаешь, мне офицерская форма будет к лицу?
— О, ты будешь очень интересным. Ты будешь душка. В тебя будут влюбляться все барышни.
— Только я, мама, обязательно в кавалерию. Терпеть не могу ходить пешком. Бух тоже думает пойти в военное. Да, мама, чуть было не забыл. Дай мне, пожалуйста, рублей десять.
— Зачем?
— Терпеть не могу, когда в кармане пусто.